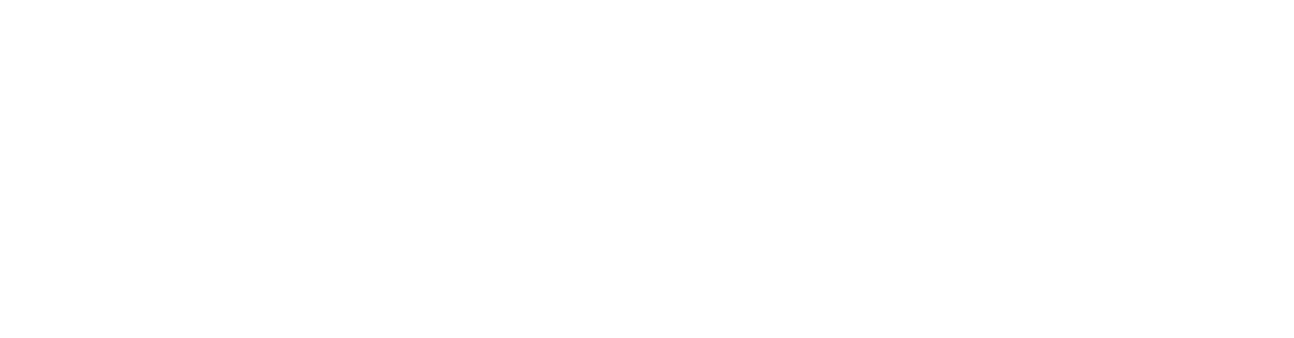Попытки Автобиографии
«Мы не знаем контекста, в котором происходит наша жизнь. И никто не знает настоящей правды».
Мой север.Звезда 2018 №7
Родился я в начале войны, в эвакуации. Почему-то мы, то есть моя мать, отец, старший брат и я, все время переезжали из города в город. Хорошо помню только один из них, точнее его название — Сызрань. Однажды я понял, что жители этого города рано вставали: с израни. Вероятно, тогда-то у меня и появился интерес к этимологии.
В 1944 году отца арестовали. Для того чтобы объявить его врагом народа, достаточно было одного документа — о том, что еще до революции он окончил юридический факультет Императорского Санкт-Петербургского университета, да еще с золотым значком. Никаких сомнений в его враждебности советской власти это не оставляло. Впрочем, симпатий к этой власти у него действительно не было, хотя до критики государственного неустройства он никогда не опускался. Но иногда он что-нибудь цитировал, например двустишие Пуришкевича:
"С красным знаменем вперед
Оголтелый прет народ."
После ареста отца мы перебрались в Ленинград (правда, в нашей семье этот город никогда так не называли). Это было страшное, голодное, холодное, нищее время. Всем детям моего поколения запомнились многочасовые стояния в очередях, необходимые, чтобы отоварить хлебные карточки. Одно из самых ярких воспоминаний моего детства: я сижу один в нашей комнате коммунальной квартиры, мать большую часть времени проводит в больнице у брата. Мне одиноко, я хочу есть и плачу. Вдруг открывается дверь и входит сосед. У него в руке нечто такое, чего я никогда еще не видел: кусок белой булки, а на ней яйцо. Сосед был крупным инженером, это он конструировал электрички, на которых мы потом ездили. В 1947 году его арестовали, из лагеря он не вернулся. Моя тетя рассказывала мне, что в краткий период хрущевской «оттепели» родственникам невинно осужденных давали денежную компенсацию. Тогда тетка в первый раз в жизни соврала. Ее спросили, был ли сосед человеком состоятельным. «Да, — ответила тетя. — У них была дорогая мебель, у жены — шикарная шуба…» На самом деле ничего этого не было. Питались они вполне прилично, но в комнате стояли железная койка под серым одеялом, колченогий стол и еще кое-какие стулья.
Читать далее...
В 1944 году отца арестовали. Для того чтобы объявить его врагом народа, достаточно было одного документа — о том, что еще до революции он окончил юридический факультет Императорского Санкт-Петербургского университета, да еще с золотым значком. Никаких сомнений в его враждебности советской власти это не оставляло. Впрочем, симпатий к этой власти у него действительно не было, хотя до критики государственного неустройства он никогда не опускался. Но иногда он что-нибудь цитировал, например двустишие Пуришкевича:
"С красным знаменем вперед
Оголтелый прет народ."
После ареста отца мы перебрались в Ленинград (правда, в нашей семье этот город никогда так не называли). Это было страшное, голодное, холодное, нищее время. Всем детям моего поколения запомнились многочасовые стояния в очередях, необходимые, чтобы отоварить хлебные карточки. Одно из самых ярких воспоминаний моего детства: я сижу один в нашей комнате коммунальной квартиры, мать большую часть времени проводит в больнице у брата. Мне одиноко, я хочу есть и плачу. Вдруг открывается дверь и входит сосед. У него в руке нечто такое, чего я никогда еще не видел: кусок белой булки, а на ней яйцо. Сосед был крупным инженером, это он конструировал электрички, на которых мы потом ездили. В 1947 году его арестовали, из лагеря он не вернулся. Моя тетя рассказывала мне, что в краткий период хрущевской «оттепели» родственникам невинно осужденных давали денежную компенсацию. Тогда тетка в первый раз в жизни соврала. Ее спросили, был ли сосед человеком состоятельным. «Да, — ответила тетя. — У них была дорогая мебель, у жены — шикарная шуба…» На самом деле ничего этого не было. Питались они вполне прилично, но в комнате стояли железная койка под серым одеялом, колченогий стол и еще кое-какие стулья.
Читать далее...
Расшифровка интервью для авторской передачи Ивана Толстого на Радио Свобода 04 ноября 2018 - часть первая "Русской литературы не читал"
Беседа с профессором русской литературы Борисом Авериным
Иван Толстой: Борис Валентинович – легендарный преподаватель Петербургского университета, один из самых любимых лекторов филологического факультета. И так было уже давно. Лет сорок назад, когда я только поступил на филфак, мне в первый же день в курилке объяснили, на кого надо ходить. Фамилия Аверина возглавляла этот перечень.
Сухой и, что называется, поджарый, со слегка смеющимися глазами и улыбающийся, Борис Валентинович, немного раскрасневшийся от нескрываемой увлеченности русской литературой, напоминал слегка подвыпившего Александра Блока, которому, собственно, и был посвящен его спецкурс. И хотя речь ни о каком алкоголе не шла, трезвый профессор в советские времена, по моим представлениям, такой спецкурс читать бы не отважился. Но Аверин на филфаке говорил чуть ли не все, что считал нужным, – не прямыми словами, но речевыми оборотами и поворотами мысли, общей картиной нарисованной им эпохи и проблематики. Это была история русского символизма с философской подосновой, с Ницше и Владимиром Соловьевым, с Мережковским и прочими, казалось бы, неупоминаемыми именами.
Как это могло происходить? Куда смотрело начальство?
Вероятно, я сейчас немного сгущаю краски и всей этой запрещенности было не так уж много, но она была, а дальше ты начинал думать и читать сам. И это главный урок, преподносимый Борисом Авериным, – он подталкивал думать. Я так полюбил подвыпившего Блока, что ходил на его спецкурсы два года подряд – один раз записавшись официально, для зачета, а на следующий год – просто так, без всякой регистрации.
Игумнов сидел за одной партой с Лениным. Он отличался фантастической памятью, но удивительно, что он помнил весь класс, кроме своего соседа – какое-то серое пятно...
И вот теперь, сорок лет спустя, я у Бориса Валентиновича в гостях, в доме под Петербургом, около Стрельны. Место исторически значимое.
Борис Аверин: Это места знаменитой Троице-Сергиевой пустыни. Троице-Сергиева лавра известна во всем мире, а после Троице-Сергиевой лавры идет Троице-Сергиева пустынь, что в полутора километрах от моего дома. Петр I отдал это своим родственникам, Анна Иоанновна выписала духовника, строится Троице-Сергиева лавра, и он стал возглавлять Троице-Сергиеву пустынь. Она быстро развивалась и достигла процветания в 70–80-е годы 19-го века. Здесь или в Лавре похоронены дочка Кутузова, Горчаков. Пушкин однажды задал вопрос: кто будет тем последним лицеистом первого набора, который один будет отмечать лицейскую годовщину? Этим человеком был Горчаков. Он ставил рюмки за каждого лицеиста, произносил слова в лицейскую годовщину и был похоронен здесь. Но у нее, как у всех святых мест, очень сложная большевистская история. У большевиков было жуткое чутье на святость, как только они что-то такое видели, они сразу уничтожали. Прислали трактора и все могилы снесли. Не снесли только одну, могилу Горностаева, который построил Надвратную церковь здесь. Снесли и могилу Горчакова, и могилу дочки Кутузова. Взорвали храм.
Иван Толстой: А какую дочку? Елизавету Михайловну Хитрово?
Борис Аверин: Да. А храм Святой Троицы построил Трезини, а расписал Брюллов. Его взорвали на моих глазах. Это был 1957 год, когда Хрущев начинал вторую серию уничтожения оставшихся храмов. Но что интересно: у большевиков чутье на святость чудовищное, они превратили Троице-Сергиеву пустынь в Высшее училище ВОХРы. Вы думаете, что это просто внутренние войска? Нет, это специально обученные люди в подобных учебных заведениях, которые говорили, что у нас в стране не все хорошо, потому что есть внутренние враги, это самое страшное, и вот с ними нужно расправляться. И они ненавидели зэков политических. Это было искренне. Тамара Владиславовна Петкевич описывает, как ей дали буханку хлеба, потому что сейчас поведут зэков, доходяга один еле идет, и ему нужно эту буханку хлеба передать. Он должна была положить ее в сеточку и бросить, когда он подходил. Была весна, конец апреля, канавы широкие, вода и снег, и когда она бросала эту сеточку, она поскользнулась и упала в канаву. Это одно из самых страшных воспоминаний. ВОХРа смеялась, как эта женщина барахтается в канаве с водой. Почему это смешно?! Вот так были воспитаны люди, вот здесь, в святом месте, в Троице-Сергиевой пустыни. Потом этот поселок переименовали из Сергиево в Володарский. Вы знаете, кто такой Володарский?
Иван Толстой: Мост.
Борис Аверин: Есть замечательный писатель Сергей Носов, в "Петербургских памятниках" один из первых его очерков посвящен Володарскому, потому что о нем никто ничего не знает. В энциклопедии написано, что Володарского убил эсер. На самом деле его убил какой-то чахоточный еврей. Зачем он его убил – неизвестно. Но сейчас все опять переименовали, нет ни станции, ни поселка Володарского, сейчас все называется Сергиево. Священники трех наших храмов десять лет боролись за переименование и победили.
Это вы мне задаете сложный вопрос о том, где я живу.
А учителя мои первые были от страшного голода. Когда я приехал в Ленинград (у нас в семье говорили только Питер и Петербург), было холодно, голодно, очереди, карточки. И тут тяжело заболел мой старший брат, поэтому мама отправила меня в Мурманск к своей сестре. А у сестры был знаменитый муж Петр Петрович Игумнов, чей папа сидел за одной партой с Лениным. Этот Игумнов отличался фантастической памятью, он помнил все. И он говорил, что самое удивительное, что он помнит весь класс, кроме своего соседа, какое-то серое пятно. Ни слов, ни внешности, ничего не помнит. Для меня это – секрет.
Мне передали просьбу Собчака, чтобы я читал лекции о Ленине в Петербурге, потому что 53% были против переименования Ленинграда. И у меня везде висели афиши – "Жизнь и творчество Ленина". Я до сих пор вспоминаю Балтийский завод – огромный зал, огромный стол, покрытый красным сукном, сидят там партийные комитеты. Я выхожу читать лекцию про Ленина и начинаю цитировать Крупскую. А там такие ужасные вещи! И знаете, что случилось? Через двадцать минут после начала лекции зал стал наполовину пуст. Возмущенные слушатели! А я им про Игумнова рассказал.
И вот в Мурманске у родственников я впервые наелся, потому что все мое детство до семи лет это был беспрерывный голод.
Иван Толстой: Вас отправили в Мурманск откуда?
Борис Аверин: Из Петрограда.
Иван Толстой: Родились вы где?
Борис Аверин: Я родился в эвакуации. Мы беспрерывно двигались по Волге, уехали чуть ли не на Западную Украину, где бандеровцы расстреливали мою маму. Она у меня имела огромные карие глаза чуть на выкате, нос с горбинкой, потому что ее бабушка – полька, отец – хохол, а у меня отец – русский. Поэтому, когда мне всякие милые националисты говорят, что вы должны идентифицировать свою национальность, я говорю: "А черт его знает! Хочу – поляк, хочу – русский, хочу – украинец". Так вот, я родился в эвакуации, а в 1944 году арестовали отца, потому что у него при обыске нашли такой порочащий документ, вы даже себе представить не можете! У него нашли удостоверение, что он окончил юридический факультет Санкт-Петербургского Императорского университета.
Иван Толстой: Как Ленин.
Борис Аверин: Ленина вы сюда не припутывайте, он экстерном что-то сдавал, получил диплом, вел два дела, оба проиграл и больше никогда юридическими науками не занимался. А отец сразу после революции уехал в имение своей первой жены, дочери капельмейстера на шхуне Николая II "Штандарт". Она рано умерла, а у нее было огромное имение в Крыму. И папа там спрятался от революционных дел, даже написал книгу о Крыме. Я ее найти не могу, к сожалению, он фамилию не поставил, а по стилю трудно найти. Это была, судя по всему, интересная книжка.
Иван Толстой: А отец был журналист или историк?
Борис Аверин: Поначалу был юристом, а в советское время его пригласили в Ленинград и предложили место главного следователя железных дорог. Это же какие странные большевики! Уже бушует 1932 год, а они выпускнику Императорского университета предлагают должность главного следователя. Папа молчал как рыба, а мама рассказывала, что у него был заместитель Барабанов, папеньку с заместителем вызывают в горком или райком и говорят, что нельзя занимать подобные должности, не будучи в партии большевиков, ВКП(б). Они собрались. "Слушай, семья, дети, что будет, если мы этого не выполним?" Они встретились на следующий день и решили купить пол- литра водки, потому что дело серьезное. Купили, довольно быстро выкушали, потом вторую купили, вторую выкушали медленнее, а потом говорят: "Мы, дворяне, вступать в такое дерьмо трезвыми?" Они купили третью и никуда не пошли. Боря исчез через три дня, его больше никто не видел, а папеньку моего понизили, назначили начальником леспромхоза в село Вруда неподалеку, сто километров. Он сосны от елки не отличал, и конечно, его надували страшно.
В 1944 году его в очередной раз арестовали по поводу этой бумаги про Императорский университет, а в армию взять не могли по причине возраста, он был старше моей маменьки на 28 лет, я родился, когда ему было 56 лет. И я никогда не знал ничего про отца, мама не говорила ни слова, это было опасно, на работу ее не брали никуда как жену врага народа, 58-я статья. Как мы жили, я не знаю. У нас был небольшой клочок земли, мы картошку выращивали.
А теперь вернемся к Мурманску. Я там живу и возвращаюсь сюда, в Петергоф. У каждого человека есть бессознательное воспоминание о рае. Мурманск, конец мая, ноздреватый черный снег, вода, кошмар… И вдруг я приезжаю – ручьи, мосты, шлюзы, озера, искусственные горы, не просто лес, а аллеи! Рай! Вот тогда я, наконец, понял, что такое кантовский трансцендентальный субъект. Потому что это все природа. Вода в озерах, ручьях и речках была исключительно прозрачной, как ходит рыба стаями, прекрасно видно. Купаться нельзя было, потому что питьевой вольер. Вот это был мой учитель – природа. Но природа, облагороженная вот этим субъектом. Природа – это липы, деревья, но во все это человек вмешался – и мостик построил, и ручеек направил, и пруд вырыл с островом посередине. Я живу в этом месте, но я ничего о нем не знаю.
А в 1954 году появился у нас в доме высокий худощавый мужчина с густыми волосами, перец с солью. Я вначале не понимал, кто это такой, а потом я понял, что это мой отец. Первая встреча мне не запомнилась. Я помню, когда я начал задавать вопросы. В школе у меня были хорошие первые учителя. Местечко наше называется Заячий Ремиз. Это полтора километра от Самсона. Красота несказанная – аллеи, пруды, насыпные горы. И я задаю вопрос: почему такое название? Я спросил учительницу истории, она мне все Пелопоннесские войны преподавала. Я ее спросил, зачем я это должен знать, а она говорит, что всякое знание полезно. А про Заячий Ремиз она не знала ничего. И когда я спросил отца, он сказал, что это французское слово, карточный термин, но второе значение – место для охоты. Здесь Анна Иоанновна и Петр II охотились на зайцев. Я таких имен-то не знал! Для меня это пустой звук, я же советский ребенок. Битов правильно говорит, что у нас, у советских молодых людей, есть такое понятие, как "ностальгия по культуре", потому что мы были страшно серыми.
Вот мы с вами в прошлый раз беседовали, вы, оказывается, прочитали Набокова, когда вам было тринадцать лет, а я – когда пятьдесят. Это большая разница. Но нам все было запрещено. Какую слышать музыку, какие смотреть фильмы, какие читать книги – очень строго определялся наш круг чтения и культурного развития.
Иван Толстой: Тем не менее, Борис Валентинович, вы стали на филологическом факультете моим любимым преподавателем, еще не прочитав Набокова, я полюбил вас в донабоковский период!
Борис Аверин: Потому что вот у меня лежит Бунин, завтра у меня лекция о Бунине. Я приехал с зимовки, я – физик по образованию первому. Лотерея книжная на Литейном. А я всегда выигрывал в лотерею. Я купил билет за 25 копеек, и выигрываю пять рублей. Условие, что я за эти пять рублей должен купить книги. Я прихожу в "Дом книги", а там стоит пять томов Бунина, Твардовского издание, девятитомник, по 90 копеек за том. Это было ошеломительно! Я до этого Бунина не читал, а Бунин издавался худо-бедно. Во всяком случае, "Песнь о Гайавате" издавалась всегда, только не было написано, что ее перевел Бунин, потому что лучше не перевести. Вот такое было мое открытие Америки.
Мы были тупые и серые как сибирские валенки, но у нас было ощущение, что нас обманули, что нас лишили тех знаний, что мы должны были иметь. Но были исключения. Сергей Сергеевич Аверинцев, Иванов, которые знали латынь, греческий. Мой отец хорошо знал латынь, греческий, все европейские языки – он окончил гимназию, университет. И когда я его спросил, что такое "ремиз", он мне стразу же ответил. А затем оказалось, что он может ответить на любой вопрос именно потому, что он знает много языков. Я не понимаю, что такое гипотенуза. А гидрид, ангидрит? "Ну, голубчик, переведи слово "гидро" – "вода". "Ангидрид" это, наверное, вступает в реакцию с водой, скорее всего. А гипотенуза в переводе значит "наклон". И вот это до сих пор действует: я, если чего не знаю, смотрю этимологию слова, и все становится ясно. Все сложнейшие физические и технические термины легко переводятся. Вот оказался у меня учитель такой серьезный.
Первое – это природа, слегка измененная человеком. А потом появляется отец.
Иван Толстой: А еще немного расскажите об отце. Сколько он прожил?
Борис Аверин: Он прожил довольно долго, он умер в 82 года. Он был весьма крепкого здоровья, не болел никогда. Он, правда, немножко любил выпивать, и однажды, в возрасте 78 лет, в состоянии легкого опьянения, у нас мост есть, а внизу речка, метров десять до нее, а ограды нет, он пошатнулся и упал на камни в эту речку. Он полежал в этой воде, а вода прохладная – осень. Встал, пришел домой, дома потерял сознание. Маменька открывает дверь – лужа крови, потому что у него из головы течет кровь, перемешивается с водой и получается огромная лужа крови. А через десять дней уже все нормально. Но в 82 года надо было сделать легкую операцию, а врачи не рисковали, они боялись, что это будет смертельный случай, и из-за этого он умер.
А вот если говорить о страшных грехах, потому что у каждого человека есть грехи… Отец, отсидев десять лет, у них же правило, вы знаете: не верь, не бойся, не проси. Он никогда не обращался ни к кому с просьбами. И вот однажды я собираюсь ехать в архив в Москву, писать диссертацию, и я ему говорю, что послезавтра уезжаю. Он говорит: "Может, не поедешь?" Вот черт подери, мне же в голову не пришло, вот эта странная интонация человека, который никогда ничего не просит. Я говорю: "Ну как же, у меня там диссертация". Через четыре дня телеграмма – умер. Он предчувствовал. Ему хотелось, чтобы я был рядом. Вот это – страшный грех. Их много, но вот это – особенный.
Он жил долго, жил хорошо, но ничего не рассказывал о лагере. А мама рассказывала много. Дело в том, что еще в первую посадку… Лагерь, где он сидел, это город Свободный, стотысячный лагерь. Но город был и до лагеря, поэтому Свободный – это не выдумка большевиков, это так исторически получилось. Начальник лагеря был неграмотный. Ему сообщают, что едет инспекция. И в лагерях тоже проверяли, и ты мог из начальника быстро превратиться в зэка. Он призвал заместителя грамотного: "Инспекция едет, надо документы приводить в порядок, а я не знаю, как это делать". Тот говорит: "У нас тут столько юристов сидит!" И первый, на кого он вышел по алфавиту, это на моего папеньку. Он говорит: "Да, конечно!" И стал быстренько документы приводить в порядок. И вот что открылось. Это рассказывает мама. Оказалось, что на некоторых зэков нет документов. "Что делать?" – говорит дирекция. "Гнать, гнать!" И вот тут стали гнать.
Когда его назначили заниматься документами, спросили, что он хочет. Он говорит: "Хочу, чтобы жену привезли". И ему на территории лагеря построили избу, привезли мать, там родился мой брат, у него в паспорте написано, что год рождения 1939-й, город Свободный. А мама рассказывает, что иду я по лагерю и вдруг падает на колени передо мной мой соотечественник, хохол, и говорит: "Хозяйка, не заще сижу! Скажи мужу, чтобы он меня выпустил!" Рождалась легенда, что он выпускает. Никого он не выпускал, он мог выпустить только тех, на кого не было документов. Но это рассказывает мама, он ни слова не говорил.
А вот о жизни до революции он рассказывал. Он же был секретарем Санкт-Петербургско-Тульского поземельного банка. Работа у него была простая. Вот вы живете где-нибудь под Тулой и хотите заложить имение. Приезжаете в Петербург, вас знакомят с этим сотрудником, они идут в ресторан, сидят, договариваются, какие проценты, когда внести, что получится. Подписали, разошлись, взаимно довольны друг другом. Не сильная была работа. Он очень любил рассказывать, как они отдыхали в Финляндии. Ничего плохого никогда не говорил, но уже про советскую власть он помалкивал. Хотя я тут привожу некоторые его тексты, он очень любил поэзию, очень любил Жуковского. Я даже не знаю, откуда он его знал и где он добывал.
О, молю тебя, создатель,
Дай вблизи ее небесной,
Пред ее небесным взором
И гореть и умереть мне,
Как горит в немом блаженстве,
Тихо, ясно угасая,
Огнь смиренныя лампады
Пред небесною Мадонной.
Это были потрясающие стихи, и я что-то понимал. Хотя он любил и "Гром победы раздавайся", это я в его личном исполнении слушал, и всякие антисоветские частушки вроде Пуришкевича: "С красным знаменем вперед оголтелый прет народ".
Ему тоже досталось, потому что его не брали на работу. 1954 год, еще действуют законы. Потом ему удалось устроиться бить камень на дорогах черт знает в каком возрасте, а потом маменька устроилась на работу в газетный киоск, она продавала газеты. Она была замечательным преподавателем, между прочим. Я помню, мы с ней сидим на детской площадке, беседуем, а через десять минут все дети уже вокруг нас, и она с ними беседует. Они чувствовали. Тем не менее, она продавала газеты, а потом и отца туда устроила. Страшная работа, между прочим. Две-три копейки газета. Это фанерный киоск "Союзпечать". Зимой они мерзли, страдали. Папа был образованный, дай бог всякому, он Жуковского наизусть цитировал, а я запомнил.
Пошел летом сильный дождь, крыша протекла, залило библиотеку – погибло пять тысяч томов из библиотеки баронессы Икскуль
Первый учитель – это мастер Туволков, который сделал лучший в мире Озерковый парк, треть которого снесли полностью, так же как и снесли Колонистский парк, вырубили дубы трехсотлетние, липы. Они просто не знали, что это такое. Они думали, что Петергоф это Самсон, а Петергоф это восемь или девять парков, каждый из которых создавали люди типа Туволкова, лугового мастера. Вот это – учитель. Учитель – отец, учитель – Петергоф, город, в котором прошла вся моя жизнь и историей которого я долго занимался, Троице-Сергиева пустынь, в частности.
Были ли у меня в школе учителя? Да. В школе главный мой учитель был учитель физкультуры Арменок Егорович Айрапетов, чемпион Союза по гимнастике. У него словарный запас был слов пятьдесят, из них минимум тридцать – ненормативной лексики. Он нас воспитывал. Он подошел ко мне, говорит: "Ты – дистрофик. Ты иди в секцию спортивную, ты же бегать не умеешь!" Да, меня любая девочка обгоняет, я – кривой, косой. У меня в детстве были все заболевания, я голодал, до трех лет ничего не ел вообще. У меня был рахит, дистрофия, диспепсия. Как Джером Клапка Джером говорил: "У меня были все болезни, кроме родильной горячки и воды в колене".
Этот учитель заставил меня пойти в секцию. Так как я бегать все равно не научился по-настоящему, тренер сказал заниматься спортивной ходьбой. Поэтому я по железнодорожной насыпи от Старого Петергофа до Нового шел туда и обратно восемь километров по песку. После того как я так ходил в течение года, меня выставили на первенство города по спортивной ходьбе на пять километров. Я иду. Начинал с пятнадцатого места, потом седьмой, потом третий, и вот мне тренер кричит: "Не выходи на первое место!" А у меня силы немерено, я же по песку ходил, а тут – беговая дорожка. Почему не выходить? У меня же силы есть. И я вышел на первое место. И раздался голос из репродуктора: "Спортсмен номер такой-то снят с дистанции за переход на бег". Я подхожу к тренеру: "Почему?!" – "Понимаешь, должен выиграть ученик главного тренера". А ученик главного тренера шел первым, но тут я его обогнал – и меня сняли с дистанции. И вот так я впервые в девятом классе познал, что такое блат.
А главное, чему нас учил Арменок Егорович Айрапетов – он нас водил в походы. Представьте себе берег озера, садится солнце, Арменок Егорович сидит на берегу, смотрит на заходящее солнце и говорит: "Мать-перемать!" Это он выражает восторг, он глубоко чувствует красоту природы, но слов нет.
Школа у нас была не сильная, очень меня не любил учитель истории. "Я, – говорит, – тебя завалю на экзамене".
Иван Толстой: Почему?
Борис Аверин: А он что-то чувствует неродное в моем восприятии советской власти. Бессознательно отец на меня действовал. Например, слушает радио и вдруг засмеется: "Водитель метро выполнил тридцатилетку! Как водитель метро может выполнить? У него расписание! Там секунда в секунду". Я не понимаю этого, но понимаю, что что-то смешное говорят по радио. Это воспитывало, хотя бессознательно. Ну и, конечно, такое неприятие советской власти у меня было всегда. Не потому, что отец сидел. Потом оно стало осознанное, когда вырубали петергофские парки. Это же серость, которая не знает, что за этот дом, построенный для Николая I, Штакеншнейдер получил звание академика. А здесь – невероятной красоты гора, внизу – шлюз. Теперь там гараж. Никольский дом дважды горел, остались одни бревна от него.
Правда, бывало и наоборот. Помимо Заячьего Ремиза еще есть Александрия. Это рай земной – мосты, ручьи, деревья. А потом все покрылось зарослями. И вдруг начинается реставрация самой западной части Александрии. Я прихожу и узнаю детство! Восстановили мое детство, потому что именно так я это видел.
Ведь никто не заботился об этих парках, деревья гибли, образовывались дупла. А мои соотечественники очень любят культуру, и идя по аллее, любили нарвать сухой травы, засунуть в дупло и поджечь. И дерево падает. Ну, так интересно! Это три поколения атеистов, людей, которым никто не объяснял, что человек должен помогать природе, должен подчеркивать ее красоту, это его задача в мире, а не поджигать деревья. Таким образом, я прожил жизнь в музее, который уничтожался на моих глазах. И если Туволков – главный гидравлик, то Эрлер – главный садовник петербургских парков. Чего они там только ни напридумывали! Красота несказанная! А я думал, что так и положено.
Современные психологи говорят, что у ребенка, который ходит в школу в центре города, другая психология, чем у ребенка из Веселого поселка. Это правда. А что действует – не знаю. Я же не могу сказать, что я любуюсь архитектурой Петербурга. Да нет, тем более – в третьем классе. А действует бессознательно. Вот на меня это действовало все бессознательно, поэтому я с детства любил стихи про природу.
Это – самые ранние учителя.
А потом начинается геофизический факультет Арктического училища. Я, между прочим, живя в бесконечной бедности, работал и учился во дворцах. Например, геофизический факультет – это нынешний Константиновский дворец. Только не тот дворец, который сейчас, там евроремонт провели, а еще когда были остатки этого бело-голубого зала. Мне приятель предложил пойти посмотреть, что там. Когда я посмотрел на Константиновский дворец, прошелся по парку, я сказал, что я здесь буду учиться, мне нравится дворец.
Иван Толстой: А он тогда уже был этим училищем?
Борис Аверин: Первоначально в этом дворце беспризорных распределяли, и один из них вспоминает, как они из рогатки стреляли хрустальные подвески: бабахнешь, а она рассыпается. Красота! Воспоминания опубликованы. А когда я был, это уже были аудитории, а рядом были корпуса, спальни. И я там учился с большим успехом, потому что в детские годы я обладал очень хорошей памятью. Я читал книжку на лекциях и одновременно запоминал, что говорит учитель. А в группе меня не любили. Не то чтобы не любили, не было оснований, но я всегда был чужой в группе, потому что вольно или невольно я усваивал язык отца, а это совсем другой язык, чем язык советского молодого человека. Вот такой пример. Я шел по Литейному, портфелем задел человека и говорю: "Простите великодушно!" Отец никогда не говорил "извините", это дурной тон. Я верю, что вы человек великодушный, я вам причинил беспокойство, поэтому я говорю – "простите великодушно". А "извините" в Одессе гопники говорят. Он никогда не говорил "зарплата". Нет такого слова. Жалованье. Я не на работу собираюсь, я иду "на службу". На службе жалованье получают. И из-за этой неправильной речи меня недолюбливали.
Иван Толстой: А что, плюнул в спину вам прохожий?
Борис Аверин: Он меня как-то сложно обругал – нечего выкабениваться. Со мной не выпивали, не приглашали никуда.
Иван Толстой: А девушки?
Борис Аверин: А девушек у меня не было. А, нет! Мне в школе нравилась одна девушка, она на меня тоже посматривала, а потом она мне книгу подарила Антонины Коптяевой. Я прочел пять страниц и девушку разлюбил. Она не виновата в том, что есть писательница Антонина Коптяева. Я даже в энциклопедию залез – много написала, вообще популярная была писательница. А потом я уехал на зимовку и все связи прервались. А в училище у меня было два очень важных в моей биографии учителя. Один – учитель военной синоптики по фамилии Хрипливый. Чтобы сделать прогноз, надо посмотреть на синоптическую карту. Там, где такой изгиб есть, образуется циклон, он делится на холодный и теплый сектор, и мы предсказываем погоду. У нас есть шесть или семь предсказаний возникновения циклона. Но очень часто циклон предсказывается, но не возникает. Все наши представления о законах природы бесконечно приблизительны. Точного знания нет. У Набокова есть стихи под названием "Электричество", где он говорит, что электричество – это прекрасно: настольная лампа, трамвай, радио:
(…)
И вот – как прежде, неземная,
не наша, пролетаешь ты,
прорывы синие являя
непостижимой наготы.
И снова мир, как много сотен
глухих веков тому назад,
и неустойчив, и неплотен,
и Божьим пламенем объят.
Это что значит? Воспоминания Афанасьева прочите. Это представление о мире как о живом, о мире, который наполнен Богом и Божьим светом озарен. Вот эта молния – не наша, не земная, чужая. Это из космоса. Русские космисты вам известны. Благодаря геофизике мне стало понятно, что земля не могла возникнуть в ситуации, когда минус 273, абсолютный минимум, и давление атмосферы ноль. Космос пустой, там холод или жесткое корпускулярное излучение, где не выдерживает ничего живое. А как же возникла Земля? А вот Богородица стоит, а у нее в одеяльцах младенчик. Эта Земля окутывается атмосферой, а затем озонным слоем, который не пропускает жесткое излучение солнца, она вся в пеленочках. И как они возникли? А черт-те знает как. Никто никогда не скажет, как возникла наша Земля. Синоптика чрезвычайно была для меня важна для понимания относительности наших знаний.
Иван Толстой: А вы с тех пор, посмотрев на небо, можете предсказать погоду?
Борис Аверин: Могу. Я предсказываю все время. У меня сын, когда ему было восемь лет, верил, что я не только могу предсказать погоду, я могу ее заказать. Когда я кого-то приглашал в гости, мне говорили, что погода плохая, а я говорил, что "я устрою", он верил, что я могу. Сын лезет в интернет, берет зонтик: "Мне сказали, что дождь будет". – "Не будет. Видишь барометр? Выросло на восемь миллибаров. Если и будет дождь, то через сутки". Он берет зонтик. Идеальная погода. Не может быть, если давление растет, ясное небо. А прогноз в интернете так и шлепают. Мой брат лучше поступает: он берет четыре прогноза, выбирает самый лучший.
Иван Толстой: Почему? Если Борис Валентинович Аверин может такими несложными инструментами?
Борис Аверин: У них, по-моему, нет барометра. Они не сморят. Еще у меня была учительница Вера Иосифовна Волкович, аэрологию преподавала. Я был по профессии аэролог, это распределение метеоэлементов, то есть давление, температура, влажность, скорость и направление ветра по высоте от нуля до тридцати километров. И вот когда я приехал на зимовку в конце октября, приходит телеграмма из Москвы, из министерства обороны, но не приказная, а они просят, чтобы сведения, которые мы поставляем о распределении метеоэлементов по высоте, были приблизительно точными. Просит! Дело в том, что у нас не было даже батареек карманных плоских, мы заливали каким-то раствором баллончики, потому что радиозонд должен вращаться с помощью электричества, а электричество мы сами изготовляли. То есть это была такая чудовищная техническая отсталость! А локатор, на котором мы работали, сделан был в конце 1920-х годов, это примитив – мы штурвалом вращали антенну и наводили на этот радиозонд. Радиозонд у нас обычно достигал высоты семи-десяти километров, а они просят до тридцати. Они знают, что мы клеим липу. Один зонд пролетел высоко, а мы потом экстраполируем.
Дело было очень серьезное, готовился самый мощный в истории мира взрыв водородной бомбы. А вот вы теперь спрашиваете меня, где выпадут радиоактивные осадки? Оказывается, в атмосфере наверху есть так называемые струйные течения. Это такая труба в атмосфере, в которой скорость ветра значительно больше, чем в окружающей атмосфере, и эти трубы в самых разных направлениях. Оказывается, есть трубы, которые в Гренландию ведут. Мы же взрываем в атмосфере, это чудовищное преступление против цивилизации, специалисты говорят. Я-то всего этого не знаю, это было секретно. Хотя я и был на атомном полигоне на Новой Земле, и у нас ледники лопались, когда взрывали в тысяче километров. Специалисты говорят, что взрывная волна трижды проходила по всему земному шару. Но, как говорили мне, радиоактивные осадки выпали в центре Гренландии, где мы с вами не живем и где они будут лежать лет шестьсот, в отличие от Чернобыля. Правда, те, кто остались, они довольны, у них там быки с двумя головами рождаются.
Иван Толстой: Говорят, Красная книга наполовину там восстановилась.
Борис Аверин: Это было в половине октября, солнце уже не выходило из-за горизонта – это называется гражданские сумерки, оно там два-три градуса под горизонтом, то есть светло, но это сумерки. И нас предупредили, что мы должны лечь ногами к эпицентру, но мы не знаем, где центр и где эпицентр, кругом – Северный полюс. Мы перед этим выскочили и играли в футбол по насту, а потом вдруг из-за горизонта встает какой-то страшный луч солнца, и нам всем становится не по себе. Мы играли в футбол, веселились, а собаки вдруг сбились в кучу и куда-то побежали. Они вернулись только через трое суток. А мы слышим звук лопающихся ледников. Земля Франца Иосифа состоит из большого количества островов – внизу там немножко земли, а так это ледник. Вот эти ледники лопались из-за взрывной волны в тысяче километров от нас. Я вам скажу больше, на Камчатке лежали ногами к эпицентру, а это еще дальше, чем мы. Никто не знал последствий этого чудовищного взрыва, их потом еще несколько было, мы этого просто не знали.
Иван Толстой: Какой год на дворе?
Борис Аверин: 1961-й.
Иван Толстой: И в 1961 году неужели ни один физик вам не скажет, что это за последствия?
Борис Аверин: Физик, может, и скажет, а Политбюро свое мнение имеет.
Иван Толстой: Конечно, надо же показать этим американцам. Тогда-то Хрущев и говорил про кузькину мать.
Борис Аверин: Это к тому, что зимовка, где я был в первый раз, у нас там была огромная библиотека. А я, уже закончив геофизический факультет, поступил на заочное отделение филологического факультета.
Иван Толстой: Вы уже начали "переметаться".
Борис Аверин: Да, и как это объяснить? Потому что с какой стати мне нужна вся эта филология? Потому что я – геофизик, я отделом заведовал в Арктическом научно-исследовательском институте, у меня было много почетных предложений. Я вообще хотел в Антарктиду. Не потому, что мне нужна Антарктида, а потому что кругосветное путешествие, а охота к перемене мест – весьма мучительное свойство, немногих добровольный крест.
А потом меня вызвал директор института, говорит: "Я читаю ваше личное дело. Очень странно. Вы заведуете отделом, что-то пишете, даже написали физико-географическое описание Земли Франца Иосифа, а учитесь на филологическом факультете. Это зачем?" – "Я люблю изучать языки". – "Извините, – он улыбнулся, – но вы учитесь на русском отделении".
На зимовке у нас была библиотека – пять тысяч томов из библиотеки баронессы Икскуль. Второе издание "Путешествия из Петербурга в Москву". Это фантастика! И нет бы мне увести все это, хоть бы экземплярчиков пятьдесят! Честность нехорошая была. Они погибли все – пошел летом сильный дождь, крыша протекла, залило библиотеку, а потом – мороз и тут же все разорвалось, все эти книги выбросили. Я только взял одну поганую книжку "Мастерство Гоголя" Храпченко. Ее никто не читал, а мне надо было что-то сдавать. Хотя говорят, что там писали аспиранты и некоторые места очень хорошие, но я не дочитал до таких мест. И вот на зимовке я и начал читать русскую литературу. Потому что после школы я русскую литературу не читал.
Иван Толстой: Борис Валентинович – легендарный преподаватель Петербургского университета, один из самых любимых лекторов филологического факультета. И так было уже давно. Лет сорок назад, когда я только поступил на филфак, мне в первый же день в курилке объяснили, на кого надо ходить. Фамилия Аверина возглавляла этот перечень.
Сухой и, что называется, поджарый, со слегка смеющимися глазами и улыбающийся, Борис Валентинович, немного раскрасневшийся от нескрываемой увлеченности русской литературой, напоминал слегка подвыпившего Александра Блока, которому, собственно, и был посвящен его спецкурс. И хотя речь ни о каком алкоголе не шла, трезвый профессор в советские времена, по моим представлениям, такой спецкурс читать бы не отважился. Но Аверин на филфаке говорил чуть ли не все, что считал нужным, – не прямыми словами, но речевыми оборотами и поворотами мысли, общей картиной нарисованной им эпохи и проблематики. Это была история русского символизма с философской подосновой, с Ницше и Владимиром Соловьевым, с Мережковским и прочими, казалось бы, неупоминаемыми именами.
Как это могло происходить? Куда смотрело начальство?
Вероятно, я сейчас немного сгущаю краски и всей этой запрещенности было не так уж много, но она была, а дальше ты начинал думать и читать сам. И это главный урок, преподносимый Борисом Авериным, – он подталкивал думать. Я так полюбил подвыпившего Блока, что ходил на его спецкурсы два года подряд – один раз записавшись официально, для зачета, а на следующий год – просто так, без всякой регистрации.
Игумнов сидел за одной партой с Лениным. Он отличался фантастической памятью, но удивительно, что он помнил весь класс, кроме своего соседа – какое-то серое пятно...
И вот теперь, сорок лет спустя, я у Бориса Валентиновича в гостях, в доме под Петербургом, около Стрельны. Место исторически значимое.
Борис Аверин: Это места знаменитой Троице-Сергиевой пустыни. Троице-Сергиева лавра известна во всем мире, а после Троице-Сергиевой лавры идет Троице-Сергиева пустынь, что в полутора километрах от моего дома. Петр I отдал это своим родственникам, Анна Иоанновна выписала духовника, строится Троице-Сергиева лавра, и он стал возглавлять Троице-Сергиеву пустынь. Она быстро развивалась и достигла процветания в 70–80-е годы 19-го века. Здесь или в Лавре похоронены дочка Кутузова, Горчаков. Пушкин однажды задал вопрос: кто будет тем последним лицеистом первого набора, который один будет отмечать лицейскую годовщину? Этим человеком был Горчаков. Он ставил рюмки за каждого лицеиста, произносил слова в лицейскую годовщину и был похоронен здесь. Но у нее, как у всех святых мест, очень сложная большевистская история. У большевиков было жуткое чутье на святость, как только они что-то такое видели, они сразу уничтожали. Прислали трактора и все могилы снесли. Не снесли только одну, могилу Горностаева, который построил Надвратную церковь здесь. Снесли и могилу Горчакова, и могилу дочки Кутузова. Взорвали храм.
Иван Толстой: А какую дочку? Елизавету Михайловну Хитрово?
Борис Аверин: Да. А храм Святой Троицы построил Трезини, а расписал Брюллов. Его взорвали на моих глазах. Это был 1957 год, когда Хрущев начинал вторую серию уничтожения оставшихся храмов. Но что интересно: у большевиков чутье на святость чудовищное, они превратили Троице-Сергиеву пустынь в Высшее училище ВОХРы. Вы думаете, что это просто внутренние войска? Нет, это специально обученные люди в подобных учебных заведениях, которые говорили, что у нас в стране не все хорошо, потому что есть внутренние враги, это самое страшное, и вот с ними нужно расправляться. И они ненавидели зэков политических. Это было искренне. Тамара Владиславовна Петкевич описывает, как ей дали буханку хлеба, потому что сейчас поведут зэков, доходяга один еле идет, и ему нужно эту буханку хлеба передать. Он должна была положить ее в сеточку и бросить, когда он подходил. Была весна, конец апреля, канавы широкие, вода и снег, и когда она бросала эту сеточку, она поскользнулась и упала в канаву. Это одно из самых страшных воспоминаний. ВОХРа смеялась, как эта женщина барахтается в канаве с водой. Почему это смешно?! Вот так были воспитаны люди, вот здесь, в святом месте, в Троице-Сергиевой пустыни. Потом этот поселок переименовали из Сергиево в Володарский. Вы знаете, кто такой Володарский?
Иван Толстой: Мост.
Борис Аверин: Есть замечательный писатель Сергей Носов, в "Петербургских памятниках" один из первых его очерков посвящен Володарскому, потому что о нем никто ничего не знает. В энциклопедии написано, что Володарского убил эсер. На самом деле его убил какой-то чахоточный еврей. Зачем он его убил – неизвестно. Но сейчас все опять переименовали, нет ни станции, ни поселка Володарского, сейчас все называется Сергиево. Священники трех наших храмов десять лет боролись за переименование и победили.
Это вы мне задаете сложный вопрос о том, где я живу.
А учителя мои первые были от страшного голода. Когда я приехал в Ленинград (у нас в семье говорили только Питер и Петербург), было холодно, голодно, очереди, карточки. И тут тяжело заболел мой старший брат, поэтому мама отправила меня в Мурманск к своей сестре. А у сестры был знаменитый муж Петр Петрович Игумнов, чей папа сидел за одной партой с Лениным. Этот Игумнов отличался фантастической памятью, он помнил все. И он говорил, что самое удивительное, что он помнит весь класс, кроме своего соседа, какое-то серое пятно. Ни слов, ни внешности, ничего не помнит. Для меня это – секрет.
Мне передали просьбу Собчака, чтобы я читал лекции о Ленине в Петербурге, потому что 53% были против переименования Ленинграда. И у меня везде висели афиши – "Жизнь и творчество Ленина". Я до сих пор вспоминаю Балтийский завод – огромный зал, огромный стол, покрытый красным сукном, сидят там партийные комитеты. Я выхожу читать лекцию про Ленина и начинаю цитировать Крупскую. А там такие ужасные вещи! И знаете, что случилось? Через двадцать минут после начала лекции зал стал наполовину пуст. Возмущенные слушатели! А я им про Игумнова рассказал.
И вот в Мурманске у родственников я впервые наелся, потому что все мое детство до семи лет это был беспрерывный голод.
Иван Толстой: Вас отправили в Мурманск откуда?
Борис Аверин: Из Петрограда.
Иван Толстой: Родились вы где?
Борис Аверин: Я родился в эвакуации. Мы беспрерывно двигались по Волге, уехали чуть ли не на Западную Украину, где бандеровцы расстреливали мою маму. Она у меня имела огромные карие глаза чуть на выкате, нос с горбинкой, потому что ее бабушка – полька, отец – хохол, а у меня отец – русский. Поэтому, когда мне всякие милые националисты говорят, что вы должны идентифицировать свою национальность, я говорю: "А черт его знает! Хочу – поляк, хочу – русский, хочу – украинец". Так вот, я родился в эвакуации, а в 1944 году арестовали отца, потому что у него при обыске нашли такой порочащий документ, вы даже себе представить не можете! У него нашли удостоверение, что он окончил юридический факультет Санкт-Петербургского Императорского университета.
Иван Толстой: Как Ленин.
Борис Аверин: Ленина вы сюда не припутывайте, он экстерном что-то сдавал, получил диплом, вел два дела, оба проиграл и больше никогда юридическими науками не занимался. А отец сразу после революции уехал в имение своей первой жены, дочери капельмейстера на шхуне Николая II "Штандарт". Она рано умерла, а у нее было огромное имение в Крыму. И папа там спрятался от революционных дел, даже написал книгу о Крыме. Я ее найти не могу, к сожалению, он фамилию не поставил, а по стилю трудно найти. Это была, судя по всему, интересная книжка.
Иван Толстой: А отец был журналист или историк?
Борис Аверин: Поначалу был юристом, а в советское время его пригласили в Ленинград и предложили место главного следователя железных дорог. Это же какие странные большевики! Уже бушует 1932 год, а они выпускнику Императорского университета предлагают должность главного следователя. Папа молчал как рыба, а мама рассказывала, что у него был заместитель Барабанов, папеньку с заместителем вызывают в горком или райком и говорят, что нельзя занимать подобные должности, не будучи в партии большевиков, ВКП(б). Они собрались. "Слушай, семья, дети, что будет, если мы этого не выполним?" Они встретились на следующий день и решили купить пол- литра водки, потому что дело серьезное. Купили, довольно быстро выкушали, потом вторую купили, вторую выкушали медленнее, а потом говорят: "Мы, дворяне, вступать в такое дерьмо трезвыми?" Они купили третью и никуда не пошли. Боря исчез через три дня, его больше никто не видел, а папеньку моего понизили, назначили начальником леспромхоза в село Вруда неподалеку, сто километров. Он сосны от елки не отличал, и конечно, его надували страшно.
В 1944 году его в очередной раз арестовали по поводу этой бумаги про Императорский университет, а в армию взять не могли по причине возраста, он был старше моей маменьки на 28 лет, я родился, когда ему было 56 лет. И я никогда не знал ничего про отца, мама не говорила ни слова, это было опасно, на работу ее не брали никуда как жену врага народа, 58-я статья. Как мы жили, я не знаю. У нас был небольшой клочок земли, мы картошку выращивали.
А теперь вернемся к Мурманску. Я там живу и возвращаюсь сюда, в Петергоф. У каждого человека есть бессознательное воспоминание о рае. Мурманск, конец мая, ноздреватый черный снег, вода, кошмар… И вдруг я приезжаю – ручьи, мосты, шлюзы, озера, искусственные горы, не просто лес, а аллеи! Рай! Вот тогда я, наконец, понял, что такое кантовский трансцендентальный субъект. Потому что это все природа. Вода в озерах, ручьях и речках была исключительно прозрачной, как ходит рыба стаями, прекрасно видно. Купаться нельзя было, потому что питьевой вольер. Вот это был мой учитель – природа. Но природа, облагороженная вот этим субъектом. Природа – это липы, деревья, но во все это человек вмешался – и мостик построил, и ручеек направил, и пруд вырыл с островом посередине. Я живу в этом месте, но я ничего о нем не знаю.
А в 1954 году появился у нас в доме высокий худощавый мужчина с густыми волосами, перец с солью. Я вначале не понимал, кто это такой, а потом я понял, что это мой отец. Первая встреча мне не запомнилась. Я помню, когда я начал задавать вопросы. В школе у меня были хорошие первые учителя. Местечко наше называется Заячий Ремиз. Это полтора километра от Самсона. Красота несказанная – аллеи, пруды, насыпные горы. И я задаю вопрос: почему такое название? Я спросил учительницу истории, она мне все Пелопоннесские войны преподавала. Я ее спросил, зачем я это должен знать, а она говорит, что всякое знание полезно. А про Заячий Ремиз она не знала ничего. И когда я спросил отца, он сказал, что это французское слово, карточный термин, но второе значение – место для охоты. Здесь Анна Иоанновна и Петр II охотились на зайцев. Я таких имен-то не знал! Для меня это пустой звук, я же советский ребенок. Битов правильно говорит, что у нас, у советских молодых людей, есть такое понятие, как "ностальгия по культуре", потому что мы были страшно серыми.
Вот мы с вами в прошлый раз беседовали, вы, оказывается, прочитали Набокова, когда вам было тринадцать лет, а я – когда пятьдесят. Это большая разница. Но нам все было запрещено. Какую слышать музыку, какие смотреть фильмы, какие читать книги – очень строго определялся наш круг чтения и культурного развития.
Иван Толстой: Тем не менее, Борис Валентинович, вы стали на филологическом факультете моим любимым преподавателем, еще не прочитав Набокова, я полюбил вас в донабоковский период!
Борис Аверин: Потому что вот у меня лежит Бунин, завтра у меня лекция о Бунине. Я приехал с зимовки, я – физик по образованию первому. Лотерея книжная на Литейном. А я всегда выигрывал в лотерею. Я купил билет за 25 копеек, и выигрываю пять рублей. Условие, что я за эти пять рублей должен купить книги. Я прихожу в "Дом книги", а там стоит пять томов Бунина, Твардовского издание, девятитомник, по 90 копеек за том. Это было ошеломительно! Я до этого Бунина не читал, а Бунин издавался худо-бедно. Во всяком случае, "Песнь о Гайавате" издавалась всегда, только не было написано, что ее перевел Бунин, потому что лучше не перевести. Вот такое было мое открытие Америки.
Мы были тупые и серые как сибирские валенки, но у нас было ощущение, что нас обманули, что нас лишили тех знаний, что мы должны были иметь. Но были исключения. Сергей Сергеевич Аверинцев, Иванов, которые знали латынь, греческий. Мой отец хорошо знал латынь, греческий, все европейские языки – он окончил гимназию, университет. И когда я его спросил, что такое "ремиз", он мне стразу же ответил. А затем оказалось, что он может ответить на любой вопрос именно потому, что он знает много языков. Я не понимаю, что такое гипотенуза. А гидрид, ангидрит? "Ну, голубчик, переведи слово "гидро" – "вода". "Ангидрид" это, наверное, вступает в реакцию с водой, скорее всего. А гипотенуза в переводе значит "наклон". И вот это до сих пор действует: я, если чего не знаю, смотрю этимологию слова, и все становится ясно. Все сложнейшие физические и технические термины легко переводятся. Вот оказался у меня учитель такой серьезный.
Первое – это природа, слегка измененная человеком. А потом появляется отец.
Иван Толстой: А еще немного расскажите об отце. Сколько он прожил?
Борис Аверин: Он прожил довольно долго, он умер в 82 года. Он был весьма крепкого здоровья, не болел никогда. Он, правда, немножко любил выпивать, и однажды, в возрасте 78 лет, в состоянии легкого опьянения, у нас мост есть, а внизу речка, метров десять до нее, а ограды нет, он пошатнулся и упал на камни в эту речку. Он полежал в этой воде, а вода прохладная – осень. Встал, пришел домой, дома потерял сознание. Маменька открывает дверь – лужа крови, потому что у него из головы течет кровь, перемешивается с водой и получается огромная лужа крови. А через десять дней уже все нормально. Но в 82 года надо было сделать легкую операцию, а врачи не рисковали, они боялись, что это будет смертельный случай, и из-за этого он умер.
А вот если говорить о страшных грехах, потому что у каждого человека есть грехи… Отец, отсидев десять лет, у них же правило, вы знаете: не верь, не бойся, не проси. Он никогда не обращался ни к кому с просьбами. И вот однажды я собираюсь ехать в архив в Москву, писать диссертацию, и я ему говорю, что послезавтра уезжаю. Он говорит: "Может, не поедешь?" Вот черт подери, мне же в голову не пришло, вот эта странная интонация человека, который никогда ничего не просит. Я говорю: "Ну как же, у меня там диссертация". Через четыре дня телеграмма – умер. Он предчувствовал. Ему хотелось, чтобы я был рядом. Вот это – страшный грех. Их много, но вот это – особенный.
Он жил долго, жил хорошо, но ничего не рассказывал о лагере. А мама рассказывала много. Дело в том, что еще в первую посадку… Лагерь, где он сидел, это город Свободный, стотысячный лагерь. Но город был и до лагеря, поэтому Свободный – это не выдумка большевиков, это так исторически получилось. Начальник лагеря был неграмотный. Ему сообщают, что едет инспекция. И в лагерях тоже проверяли, и ты мог из начальника быстро превратиться в зэка. Он призвал заместителя грамотного: "Инспекция едет, надо документы приводить в порядок, а я не знаю, как это делать". Тот говорит: "У нас тут столько юристов сидит!" И первый, на кого он вышел по алфавиту, это на моего папеньку. Он говорит: "Да, конечно!" И стал быстренько документы приводить в порядок. И вот что открылось. Это рассказывает мама. Оказалось, что на некоторых зэков нет документов. "Что делать?" – говорит дирекция. "Гнать, гнать!" И вот тут стали гнать.
Когда его назначили заниматься документами, спросили, что он хочет. Он говорит: "Хочу, чтобы жену привезли". И ему на территории лагеря построили избу, привезли мать, там родился мой брат, у него в паспорте написано, что год рождения 1939-й, город Свободный. А мама рассказывает, что иду я по лагерю и вдруг падает на колени передо мной мой соотечественник, хохол, и говорит: "Хозяйка, не заще сижу! Скажи мужу, чтобы он меня выпустил!" Рождалась легенда, что он выпускает. Никого он не выпускал, он мог выпустить только тех, на кого не было документов. Но это рассказывает мама, он ни слова не говорил.
А вот о жизни до революции он рассказывал. Он же был секретарем Санкт-Петербургско-Тульского поземельного банка. Работа у него была простая. Вот вы живете где-нибудь под Тулой и хотите заложить имение. Приезжаете в Петербург, вас знакомят с этим сотрудником, они идут в ресторан, сидят, договариваются, какие проценты, когда внести, что получится. Подписали, разошлись, взаимно довольны друг другом. Не сильная была работа. Он очень любил рассказывать, как они отдыхали в Финляндии. Ничего плохого никогда не говорил, но уже про советскую власть он помалкивал. Хотя я тут привожу некоторые его тексты, он очень любил поэзию, очень любил Жуковского. Я даже не знаю, откуда он его знал и где он добывал.
О, молю тебя, создатель,
Дай вблизи ее небесной,
Пред ее небесным взором
И гореть и умереть мне,
Как горит в немом блаженстве,
Тихо, ясно угасая,
Огнь смиренныя лампады
Пред небесною Мадонной.
Это были потрясающие стихи, и я что-то понимал. Хотя он любил и "Гром победы раздавайся", это я в его личном исполнении слушал, и всякие антисоветские частушки вроде Пуришкевича: "С красным знаменем вперед оголтелый прет народ".
Ему тоже досталось, потому что его не брали на работу. 1954 год, еще действуют законы. Потом ему удалось устроиться бить камень на дорогах черт знает в каком возрасте, а потом маменька устроилась на работу в газетный киоск, она продавала газеты. Она была замечательным преподавателем, между прочим. Я помню, мы с ней сидим на детской площадке, беседуем, а через десять минут все дети уже вокруг нас, и она с ними беседует. Они чувствовали. Тем не менее, она продавала газеты, а потом и отца туда устроила. Страшная работа, между прочим. Две-три копейки газета. Это фанерный киоск "Союзпечать". Зимой они мерзли, страдали. Папа был образованный, дай бог всякому, он Жуковского наизусть цитировал, а я запомнил.
Пошел летом сильный дождь, крыша протекла, залило библиотеку – погибло пять тысяч томов из библиотеки баронессы Икскуль
Первый учитель – это мастер Туволков, который сделал лучший в мире Озерковый парк, треть которого снесли полностью, так же как и снесли Колонистский парк, вырубили дубы трехсотлетние, липы. Они просто не знали, что это такое. Они думали, что Петергоф это Самсон, а Петергоф это восемь или девять парков, каждый из которых создавали люди типа Туволкова, лугового мастера. Вот это – учитель. Учитель – отец, учитель – Петергоф, город, в котором прошла вся моя жизнь и историей которого я долго занимался, Троице-Сергиева пустынь, в частности.
Были ли у меня в школе учителя? Да. В школе главный мой учитель был учитель физкультуры Арменок Егорович Айрапетов, чемпион Союза по гимнастике. У него словарный запас был слов пятьдесят, из них минимум тридцать – ненормативной лексики. Он нас воспитывал. Он подошел ко мне, говорит: "Ты – дистрофик. Ты иди в секцию спортивную, ты же бегать не умеешь!" Да, меня любая девочка обгоняет, я – кривой, косой. У меня в детстве были все заболевания, я голодал, до трех лет ничего не ел вообще. У меня был рахит, дистрофия, диспепсия. Как Джером Клапка Джером говорил: "У меня были все болезни, кроме родильной горячки и воды в колене".
Этот учитель заставил меня пойти в секцию. Так как я бегать все равно не научился по-настоящему, тренер сказал заниматься спортивной ходьбой. Поэтому я по железнодорожной насыпи от Старого Петергофа до Нового шел туда и обратно восемь километров по песку. После того как я так ходил в течение года, меня выставили на первенство города по спортивной ходьбе на пять километров. Я иду. Начинал с пятнадцатого места, потом седьмой, потом третий, и вот мне тренер кричит: "Не выходи на первое место!" А у меня силы немерено, я же по песку ходил, а тут – беговая дорожка. Почему не выходить? У меня же силы есть. И я вышел на первое место. И раздался голос из репродуктора: "Спортсмен номер такой-то снят с дистанции за переход на бег". Я подхожу к тренеру: "Почему?!" – "Понимаешь, должен выиграть ученик главного тренера". А ученик главного тренера шел первым, но тут я его обогнал – и меня сняли с дистанции. И вот так я впервые в девятом классе познал, что такое блат.
А главное, чему нас учил Арменок Егорович Айрапетов – он нас водил в походы. Представьте себе берег озера, садится солнце, Арменок Егорович сидит на берегу, смотрит на заходящее солнце и говорит: "Мать-перемать!" Это он выражает восторг, он глубоко чувствует красоту природы, но слов нет.
Школа у нас была не сильная, очень меня не любил учитель истории. "Я, – говорит, – тебя завалю на экзамене".
Иван Толстой: Почему?
Борис Аверин: А он что-то чувствует неродное в моем восприятии советской власти. Бессознательно отец на меня действовал. Например, слушает радио и вдруг засмеется: "Водитель метро выполнил тридцатилетку! Как водитель метро может выполнить? У него расписание! Там секунда в секунду". Я не понимаю этого, но понимаю, что что-то смешное говорят по радио. Это воспитывало, хотя бессознательно. Ну и, конечно, такое неприятие советской власти у меня было всегда. Не потому, что отец сидел. Потом оно стало осознанное, когда вырубали петергофские парки. Это же серость, которая не знает, что за этот дом, построенный для Николая I, Штакеншнейдер получил звание академика. А здесь – невероятной красоты гора, внизу – шлюз. Теперь там гараж. Никольский дом дважды горел, остались одни бревна от него.
Правда, бывало и наоборот. Помимо Заячьего Ремиза еще есть Александрия. Это рай земной – мосты, ручьи, деревья. А потом все покрылось зарослями. И вдруг начинается реставрация самой западной части Александрии. Я прихожу и узнаю детство! Восстановили мое детство, потому что именно так я это видел.
Ведь никто не заботился об этих парках, деревья гибли, образовывались дупла. А мои соотечественники очень любят культуру, и идя по аллее, любили нарвать сухой травы, засунуть в дупло и поджечь. И дерево падает. Ну, так интересно! Это три поколения атеистов, людей, которым никто не объяснял, что человек должен помогать природе, должен подчеркивать ее красоту, это его задача в мире, а не поджигать деревья. Таким образом, я прожил жизнь в музее, который уничтожался на моих глазах. И если Туволков – главный гидравлик, то Эрлер – главный садовник петербургских парков. Чего они там только ни напридумывали! Красота несказанная! А я думал, что так и положено.
Современные психологи говорят, что у ребенка, который ходит в школу в центре города, другая психология, чем у ребенка из Веселого поселка. Это правда. А что действует – не знаю. Я же не могу сказать, что я любуюсь архитектурой Петербурга. Да нет, тем более – в третьем классе. А действует бессознательно. Вот на меня это действовало все бессознательно, поэтому я с детства любил стихи про природу.
Это – самые ранние учителя.
А потом начинается геофизический факультет Арктического училища. Я, между прочим, живя в бесконечной бедности, работал и учился во дворцах. Например, геофизический факультет – это нынешний Константиновский дворец. Только не тот дворец, который сейчас, там евроремонт провели, а еще когда были остатки этого бело-голубого зала. Мне приятель предложил пойти посмотреть, что там. Когда я посмотрел на Константиновский дворец, прошелся по парку, я сказал, что я здесь буду учиться, мне нравится дворец.
Иван Толстой: А он тогда уже был этим училищем?
Борис Аверин: Первоначально в этом дворце беспризорных распределяли, и один из них вспоминает, как они из рогатки стреляли хрустальные подвески: бабахнешь, а она рассыпается. Красота! Воспоминания опубликованы. А когда я был, это уже были аудитории, а рядом были корпуса, спальни. И я там учился с большим успехом, потому что в детские годы я обладал очень хорошей памятью. Я читал книжку на лекциях и одновременно запоминал, что говорит учитель. А в группе меня не любили. Не то чтобы не любили, не было оснований, но я всегда был чужой в группе, потому что вольно или невольно я усваивал язык отца, а это совсем другой язык, чем язык советского молодого человека. Вот такой пример. Я шел по Литейному, портфелем задел человека и говорю: "Простите великодушно!" Отец никогда не говорил "извините", это дурной тон. Я верю, что вы человек великодушный, я вам причинил беспокойство, поэтому я говорю – "простите великодушно". А "извините" в Одессе гопники говорят. Он никогда не говорил "зарплата". Нет такого слова. Жалованье. Я не на работу собираюсь, я иду "на службу". На службе жалованье получают. И из-за этой неправильной речи меня недолюбливали.
Иван Толстой: А что, плюнул в спину вам прохожий?
Борис Аверин: Он меня как-то сложно обругал – нечего выкабениваться. Со мной не выпивали, не приглашали никуда.
Иван Толстой: А девушки?
Борис Аверин: А девушек у меня не было. А, нет! Мне в школе нравилась одна девушка, она на меня тоже посматривала, а потом она мне книгу подарила Антонины Коптяевой. Я прочел пять страниц и девушку разлюбил. Она не виновата в том, что есть писательница Антонина Коптяева. Я даже в энциклопедию залез – много написала, вообще популярная была писательница. А потом я уехал на зимовку и все связи прервались. А в училище у меня было два очень важных в моей биографии учителя. Один – учитель военной синоптики по фамилии Хрипливый. Чтобы сделать прогноз, надо посмотреть на синоптическую карту. Там, где такой изгиб есть, образуется циклон, он делится на холодный и теплый сектор, и мы предсказываем погоду. У нас есть шесть или семь предсказаний возникновения циклона. Но очень часто циклон предсказывается, но не возникает. Все наши представления о законах природы бесконечно приблизительны. Точного знания нет. У Набокова есть стихи под названием "Электричество", где он говорит, что электричество – это прекрасно: настольная лампа, трамвай, радио:
(…)
И вот – как прежде, неземная,
не наша, пролетаешь ты,
прорывы синие являя
непостижимой наготы.
И снова мир, как много сотен
глухих веков тому назад,
и неустойчив, и неплотен,
и Божьим пламенем объят.
Это что значит? Воспоминания Афанасьева прочите. Это представление о мире как о живом, о мире, который наполнен Богом и Божьим светом озарен. Вот эта молния – не наша, не земная, чужая. Это из космоса. Русские космисты вам известны. Благодаря геофизике мне стало понятно, что земля не могла возникнуть в ситуации, когда минус 273, абсолютный минимум, и давление атмосферы ноль. Космос пустой, там холод или жесткое корпускулярное излучение, где не выдерживает ничего живое. А как же возникла Земля? А вот Богородица стоит, а у нее в одеяльцах младенчик. Эта Земля окутывается атмосферой, а затем озонным слоем, который не пропускает жесткое излучение солнца, она вся в пеленочках. И как они возникли? А черт-те знает как. Никто никогда не скажет, как возникла наша Земля. Синоптика чрезвычайно была для меня важна для понимания относительности наших знаний.
Иван Толстой: А вы с тех пор, посмотрев на небо, можете предсказать погоду?
Борис Аверин: Могу. Я предсказываю все время. У меня сын, когда ему было восемь лет, верил, что я не только могу предсказать погоду, я могу ее заказать. Когда я кого-то приглашал в гости, мне говорили, что погода плохая, а я говорил, что "я устрою", он верил, что я могу. Сын лезет в интернет, берет зонтик: "Мне сказали, что дождь будет". – "Не будет. Видишь барометр? Выросло на восемь миллибаров. Если и будет дождь, то через сутки". Он берет зонтик. Идеальная погода. Не может быть, если давление растет, ясное небо. А прогноз в интернете так и шлепают. Мой брат лучше поступает: он берет четыре прогноза, выбирает самый лучший.
Иван Толстой: Почему? Если Борис Валентинович Аверин может такими несложными инструментами?
Борис Аверин: У них, по-моему, нет барометра. Они не сморят. Еще у меня была учительница Вера Иосифовна Волкович, аэрологию преподавала. Я был по профессии аэролог, это распределение метеоэлементов, то есть давление, температура, влажность, скорость и направление ветра по высоте от нуля до тридцати километров. И вот когда я приехал на зимовку в конце октября, приходит телеграмма из Москвы, из министерства обороны, но не приказная, а они просят, чтобы сведения, которые мы поставляем о распределении метеоэлементов по высоте, были приблизительно точными. Просит! Дело в том, что у нас не было даже батареек карманных плоских, мы заливали каким-то раствором баллончики, потому что радиозонд должен вращаться с помощью электричества, а электричество мы сами изготовляли. То есть это была такая чудовищная техническая отсталость! А локатор, на котором мы работали, сделан был в конце 1920-х годов, это примитив – мы штурвалом вращали антенну и наводили на этот радиозонд. Радиозонд у нас обычно достигал высоты семи-десяти километров, а они просят до тридцати. Они знают, что мы клеим липу. Один зонд пролетел высоко, а мы потом экстраполируем.
Дело было очень серьезное, готовился самый мощный в истории мира взрыв водородной бомбы. А вот вы теперь спрашиваете меня, где выпадут радиоактивные осадки? Оказывается, в атмосфере наверху есть так называемые струйные течения. Это такая труба в атмосфере, в которой скорость ветра значительно больше, чем в окружающей атмосфере, и эти трубы в самых разных направлениях. Оказывается, есть трубы, которые в Гренландию ведут. Мы же взрываем в атмосфере, это чудовищное преступление против цивилизации, специалисты говорят. Я-то всего этого не знаю, это было секретно. Хотя я и был на атомном полигоне на Новой Земле, и у нас ледники лопались, когда взрывали в тысяче километров. Специалисты говорят, что взрывная волна трижды проходила по всему земному шару. Но, как говорили мне, радиоактивные осадки выпали в центре Гренландии, где мы с вами не живем и где они будут лежать лет шестьсот, в отличие от Чернобыля. Правда, те, кто остались, они довольны, у них там быки с двумя головами рождаются.
Иван Толстой: Говорят, Красная книга наполовину там восстановилась.
Борис Аверин: Это было в половине октября, солнце уже не выходило из-за горизонта – это называется гражданские сумерки, оно там два-три градуса под горизонтом, то есть светло, но это сумерки. И нас предупредили, что мы должны лечь ногами к эпицентру, но мы не знаем, где центр и где эпицентр, кругом – Северный полюс. Мы перед этим выскочили и играли в футбол по насту, а потом вдруг из-за горизонта встает какой-то страшный луч солнца, и нам всем становится не по себе. Мы играли в футбол, веселились, а собаки вдруг сбились в кучу и куда-то побежали. Они вернулись только через трое суток. А мы слышим звук лопающихся ледников. Земля Франца Иосифа состоит из большого количества островов – внизу там немножко земли, а так это ледник. Вот эти ледники лопались из-за взрывной волны в тысяче километров от нас. Я вам скажу больше, на Камчатке лежали ногами к эпицентру, а это еще дальше, чем мы. Никто не знал последствий этого чудовищного взрыва, их потом еще несколько было, мы этого просто не знали.
Иван Толстой: Какой год на дворе?
Борис Аверин: 1961-й.
Иван Толстой: И в 1961 году неужели ни один физик вам не скажет, что это за последствия?
Борис Аверин: Физик, может, и скажет, а Политбюро свое мнение имеет.
Иван Толстой: Конечно, надо же показать этим американцам. Тогда-то Хрущев и говорил про кузькину мать.
Борис Аверин: Это к тому, что зимовка, где я был в первый раз, у нас там была огромная библиотека. А я, уже закончив геофизический факультет, поступил на заочное отделение филологического факультета.
Иван Толстой: Вы уже начали "переметаться".
Борис Аверин: Да, и как это объяснить? Потому что с какой стати мне нужна вся эта филология? Потому что я – геофизик, я отделом заведовал в Арктическом научно-исследовательском институте, у меня было много почетных предложений. Я вообще хотел в Антарктиду. Не потому, что мне нужна Антарктида, а потому что кругосветное путешествие, а охота к перемене мест – весьма мучительное свойство, немногих добровольный крест.
А потом меня вызвал директор института, говорит: "Я читаю ваше личное дело. Очень странно. Вы заведуете отделом, что-то пишете, даже написали физико-географическое описание Земли Франца Иосифа, а учитесь на филологическом факультете. Это зачем?" – "Я люблю изучать языки". – "Извините, – он улыбнулся, – но вы учитесь на русском отделении".
На зимовке у нас была библиотека – пять тысяч томов из библиотеки баронессы Икскуль. Второе издание "Путешествия из Петербурга в Москву". Это фантастика! И нет бы мне увести все это, хоть бы экземплярчиков пятьдесят! Честность нехорошая была. Они погибли все – пошел летом сильный дождь, крыша протекла, залило библиотеку, а потом – мороз и тут же все разорвалось, все эти книги выбросили. Я только взял одну поганую книжку "Мастерство Гоголя" Храпченко. Ее никто не читал, а мне надо было что-то сдавать. Хотя говорят, что там писали аспиранты и некоторые места очень хорошие, но я не дочитал до таких мест. И вот на зимовке я и начал читать русскую литературу. Потому что после школы я русскую литературу не читал.
Расшифровка интервью для авторской передачи Ивана Толстого на Радио Свобода 06 ноября 2018 - часть вторая "Чем закончилась "Анна Каренина"? "
Беседа с профессором Борисом Авериным. Часть вторая
Иван Толстой: В прошлый раз мой собеседник рассказывал о своей жизни до обращения к филологии. Если я не путаю, он как аэролог умеет разгонять тучи и останавливать небесное светило, но русская литература показалась ему интереснее.
Борис Аверин: В школе русскую литературу я не любил. Когда мне объяснили, что "лишний человек" это Евгений Онегин, потому что уже прошло Декабрьское восстание и все умные люди (мы-то с вами знаем, что это было до восстания) были не нужны в этой стране, декабристы уже посажены. Вот эти умные "ненужности" – Печорин, Онегин… Ну, скучно. А у меня еще хорошая память была, поэтому, когда учительница открывает журнал, смотрит на первую строчку, а нам задано читать "Мцыри", я открываю страницу, секунды две читаю, меня называют, и я начинаю цитировать то, что запомнил. Я запоминал, но в целом было неинтересно. А потом учительница вызвала в школу маму и сказала, что единственный человек, о котором она по-настоящему беспокоится, который может не написать сочинение, это ваш сын. Мама и папа никогда не интересовались, как я учусь, у каждого свои заботы, у тебя – учеба, так и учись. А я тоже не понимаю, почему она так. У меня всегда было три-четыре по сочинению. Дело в том, что я в одном из сочинений процитировал Белинского, а Белинского можно было цитировать только те мысли, которые в учебнике, а я Белинского читал. Она боялась, что крамола у меня в сочинении выскочит какая-нибудь. Но написал, получил четверку.
А после зимовки уже начинается университет, и вот здесь я попадаю в совершенно уникальную ситуацию. У нас на кафедре еще те профессора, которые в 30-е годы, – Дмитрий Евгеньевич Максимов, который дружит с Андреем Белым, Мануйлов, который секретарем был у Толстого, который с Вячеславом Ивановым в Баку встречался. Он мне рассказывал, как он идет к Вячеславу Иванову, а тут нищий сидит и милостыню просит. Он думает: давать или не давать? С одной стороны, все жулики, а с другой, как-то не давать милостыню… Звонит, выходит Вячеслав Иванов. "Ну как, следует давать милостыню или нет?" А он еще был хиромант, он предсказывал по линиям. Потом я занимался этой наукой, там есть какой-то смысл. Как и по почерку, по линиям можно определять.
Иван Толстой: Я видел в детстве, как Виктор Андронникович гадает по руке.
Борис Аверин: Я ему говорю: "Погадайте мне". – "Неужели вы хотите знать свое будущее?" – "Не хочу". – "Вот и не надо!" А правда, зачем мне знать свое будущее? Не хочу. Вот такая публика была на кафедре особая. Григорий Абрамович Бялый, друг Гуковского и Бориса Михайловича Эйхенбаума. Рассказывает, что идет с Гуковским и говорит, что ему предлагают место замминистра культуры. А Бялый говорит: "Послушай, ты же выдающийся лектор, прекрасный специалист, что тебе это? Вот твое призвание, вот где ты на месте". Он отвечает: "Не рассуждай о том, чего не понимаешь". Это – любовь к власти. У Бялого этого не было, а у Гуковского, вероятно, было.
За столом сидим, протягивает мне его жена хлеб, а я говорю: "Нет, я пирожок возьму". Он говорит: "Вы невольно повторяете Мариенгофа. Он здесь сидел на вашем месте, и когда я предложил ему хлеб, он говорит, что хлеб он будет есть дома, а тут давайте пирожки". Я застал этот круг людей.
У нас в 415-й школе был учитель рисования, он преподавал еще до революции. Я рисовать не умел, я с ним не общался, но то, что он человек другой формации, видно было сразу. Это какое-то другое воспитание. Очень быстро советская власть перековала народ. Сначала уничтожили религию, потом Надежда Константиновна сказала, что нельзя читать Достоевского, Владимир Ильич подтвердил: буржуазная литература. Джека Лондона они изымали из библиотек. И постепенно, поколение за поколением, культура в этой стране исчезала. Поэтому можно вырубать парки.
Советский народ – это что-то невероятное! Мои профессора хорошо относились к молодежи. Я сейчас даже фамилию не знаю новых преподавателей. А когда я поступал, заведующий кафедрой говорит: "Я хочу взять нового преподавателя, меня немножко пугает, что он партийный". Я говорю: "Не пугайтесь, дело в том, что он работал в газете, его однажды вызвал главный редактор, а он жил в коммунальной комнатушке шесть метров с женой и сыном, и сказали, что они хотят назначить его начальником отдела, а после этого они ему дадут квартиру. Но надо вступить в партию. У них начальников отдела не бывает беспартийных". Это то, что я про отца рассказывал – он вступил и правильно сделал, и никто его не осудит. Что, он будет мучить жену и ребенка в коммунальной квартире? Тем не менее, заведующий кафедрой спрашивает аспиранта, это было нормально. А все эти учителя – Мануйлов, Максимов, Бялый – приглашают в гости, беседуют, им интересно, что думает новое поколение. А что мы думали? Неизвестно. Я пришел, хочу писать диссертацию про "Жизнь Арсеньева" Бунина. Мне говорят: нет, пишите про Короленко, "История моего современника".
Иван Толстой: А что? Хорошая книга.
Борис Аверин: Хорошая книга, но там исследовать нечего.
Иван Толстой: Позитивистская, конечно, да.
Борис Аверин: Не совсем. У него есть глава, которая называется "Потерянный аргумент". Он же был очень религиозный в детстве, а потом он открыл доказательство бытия Божия и забыл. А потом уже, когда он писал статьи, там всегда были слова, что он верующий человек. Но в чем была особенность этой русской интеллигенции? Она была в том, что родители, воспитанные на Чернышевском, Добролюбове, Писареве, я уже не говорю про Зайцева, они же были все атеисты. Поэтому родители их усваивали, что надо переделать социальную основу общества и тогда будет в мире мир. Ни черта не получится.
Вот такой пример. Сидит мальчик за столом, столовая в дворянском доме, крахмальная скатерть, хрусталь, на тарелках всякая еда, сливочное масло, сметана. А за окном бегает без штанов голодный крестьянский ребенок. И вот наш юный толстовец, скажем, ему девять лет, говорит: "Папа, смотри, у нас всего вдоволь, а на улице бегает голодный мальчик. Как это?" На что родители отвечали, это такой ответ распространенный: "Тебе много дано, но с тебя много спросится". Вот этот самый долг перед народом. Хорошо пригласить конкретного мальчика и накормить. Нет, нужно изменить социальные условия, нужно отдать долг народу. Такое своеобразное толстовство, только посильнее, по-настоящему.
Что такое толстовство, я понял еще в школе, а потом я преподавал раз в месяц в городе Нальчике зарубежную литературу. Меня Сокуров пригласил. Я говорю: "Будем изучать зарубежную литературу, будем читать Евангелие от Иоанна". - "Какая же это зарубежная литература?" – "А такая. Что, ты думаешь, это русская литература?" Там есть козий рынок, где бабушки из козьей шерсти делают разную одежду, а мне очень нравились рубашки нательные мягкие, козьи. Я подхожу: "Сколько это стоит?" – "150 рублей". – "Сколько?!" – "150 рублей, ведь это недорого". Боже мой! Я же знаю процесс: надо козу вырастить, накосить травы, ее накормить, потом ее остричь, потом из этой шерсти сделать нитки, а потом из этих ниток сделать рубаху. После этого я иду в кафе в Нальчике, где чашка кофе стоит 150 рублей. Вот бабушка год ткет эту рубашку, а я за десять минут выпиваю. Вот это – толстовцы. Неудобно. Правда, я у бабушки купил три рубашки. А она подумала, что я считаю, что это дорого. А там все цены такие были из козьих вещей.
Так вот, образование мое продолжалось в университете, и это было действительно серьезное.
Иван Толстой: Вы взялись за "Историю моего современника" Короленко?
Борис Аверин: Да. Я два года ничего не делал, читал антисоветскую литературу в огромном количестве. Вашего Ходасевича "Некрополь" до сих пор помню.
Иван Толстой: В каком году вы его прочли?
Борис Аверин: В 1965-м.
Иван Толстой: Ага, хитренький! А я вас в 1980 году, после лекции, в коридоре спросил (о Блоке была лекция). У Ходасевича было, что Блок потом сознавался, что сам не понимает смысла своих стихов. Я вас спросил, вроде никого рядом не было, мы шли с вами вместе по коридору, я вас спросил: а вот Ходасевич как раз говорил, что Блок не понимал своих стихов. И вы изобразили, что не знаете, о чем я говорю. Тертый калач были! Вы, конечно, за провокатора меня приняли.
Борис Аверин: Нет, вы не похожи на провокатора. А у меня с Ходасевичем была история. Я в Москве занимался на социологическом семинаре, а там были два человека, у которых антисоветская литература началась, как у меня, – на полках книги, и там все сплошная антисоветчина. Я у них набирал книги, прочитывал и возвращал. А я не выдержал, еду в поезде сидячем, думаю, достану "Некрополь", книжка историческая. Достал, читаю, вдруг подходит проводник: "О! Это интересно!" Я так напугался! А он, оказывается, любит историческую литературу. Я просто побледнел, он говорит: "Знаете, я люблю историческую литературу, а тут у вас название это явно историческое". Он понимает, что некрополь – это много богов в одном здании, но то, что это антисоветчина… А какая там антисоветчина? Это же воспоминания.
Иван Толстой: Вообще хороший был дом, где вы это взяли, потому что "Некрополь", оригинальное то издание, безумно редкое было, туда бомба попала, в брюссельский склад.
Борис Аверин: Это был очень важный человек в Москве. Их было двое. Одна из них из одного города в кавказской республике, папа у нее был крупный партийный деятель, Эмма Чамокова. Она на уроках литературы преподавала "Архипелаг ГУЛАГ" Солженицына. Самый главный у него рассказ, когда его из поезда вынимают, допрашивают, а он ничего не знает, потому что он в лагере сидит и сейчас возвращается. И она преподавала. На нее донос написали. Всегда найдется человек, которому хочется восстановить справедливость.
Иван Толстой: Мир не без добрых людей.
Борис Аверин: Папенька, конечно, ее отстоял, но сказал, что она должна поехать в Москву, потому что здесь ей делать нечего после такого. Она поехала в Москву, стала работать в библиотеке, и там у нее образовался этот круг людей с такой литературой. Еще вторая дама была невероятно образованная, я у нее много чему научился. Социологии, в частности, потому что они не какую-то марксистскую социологию учили, это же для детей дошкольного возраста, он учили нормальную, хорошую социологию, западную, но не Маркса.
Иван Толстой: Как звали даму?
Борис Аверин: Никольская. Она очень много мне дала, очень много помогала, книжки давала, мы по социологии с ней много беседовали. Надо было как-то поменять мышление, это сложно было. Вот сейчас хорошо, потому что мы понимаем, что человек не просто социальное существо, как ваш любимый Маркс говорил, мы живем в обществе и не можем от него не зависеть. Можем не зависеть запросто, но общество не определяет нас, определяют гораздо более сложные процессы. Я там очень долго учился социологии. Это была Москва, а я в аспирантуре учился. Я езжу в Москву, занимаюсь социологией и знакомлюсь со всякими людьми.
Сижу я как-то в кафе "Прага", там можно было вполне за полтора рубля пообедать, вдруг ко мне подсаживается сильно пьяный человек и говорит: "Слушай, закажи мне стакан вина". Пожалуйста! Заказываю стакан вина, он выпивает, тут же трезвеет, у него проясняются глаза, он говорит: "Смотрю я на тебя и полагаю, что ты гуманитарий, ибо только гуманитарий мог так оскудеть телом". Москвичи, они же с юмором. Москва сильно воспитывала, я очень любил Москву, а сейчас не люблю, сейчас эти небоскребы… Больница Склифосовского, а над ней нависает двадцатиэтажный дом, и нет больницы. А Тверской бульвар! Боже мой, какая безвкусица, какие надписи, какой шрифт! У нас нет такого, кстати, у нас Невский более или менее благообразен.
Иван Толстой: Ну, как сказать. Мой сын много лет не был в России, прилетели в Пулково, на метро доехали до Невского проспекта, выходим, а он говорит: "Что это за Соединенные Штаты? Ты посмотри напротив – каждая надпись на английском языке!".
Борис Аверин: Я бы ответил ему: голубчик мой, вспомни 18–19-й век – все надписи по-французски. Большинство надписей на Невском проспекте. Но сейчас, действительно, перебор с английским языком.
Иван Толстой: А я иду по солнечной стороне Невского проспекта, на все смотрю как приезжий провинциал, и на двери одного из кафе крупно, торжественно, с понтами написано – "Meat balls". И в скобках мелко, скромно так – "фрикадельки".
Борис Аверин: У нас была рядом с Балтийским вокзалом замечательная пельменная, теперь ресторан вот этих гамбургеров. Какой-то кошмар. Так было хорошо: перед электричкой зайдешь, закажешь себе пельменей, стакан вина, сидишь и ждешь электричку. А теперь там эти огромные батоны, внутри которых напихана всякая гадость.
Иван Толстой: А кто был руководителем вашей аспирантуры?
Борис Аверин: Когда я начинал дипломную работу, у меня была Людмила Владимировна Крутикова, жена Федора Абрамова. Через Людмилу Владимировну Крутикову я и познакомился с Федором Александровичем, который меня в какой-то момент поразил. Он был человек с юмором, а у Людмилы Владимировны никакого юмора не было, он не может с ней пошутить. И я помню, что грубовато он так говорил: "Люська, у нас что, марксизм наступил? Где ужин?" У него было ругательство "марксизм", потому что он – крестьянин, а Маркс нам говорит, что вся сила в пролетариате, в фабричном рабочем, который работает на станке, выкручивает гайки на этом станке, а потом кушает водку. Или крестьянин, который хранит язык, фольклор, возделывает землю. Вот суть земли – крестьянин. А какой там пролетариат! Вот поэтому и ругательство было у него – "марксизм". Он сохранил язык архангельского мужика.
Потом, когда я дважды ездил в экспедицию по речке Пинеге, очень интересно было. Я беседовал с каким-то работником, говорю: "Вот какой у вас на Пинеге вырос писатель – Федор Александрович Абрамов". Он: "Да, хороший писатель, да не все правильно "понимат". Он чувствовал, что там какой-то есть подтекст.
У него предки из духовенства. Но он очень много просвещал. А потом у меня стал Григорий Абрамович Бялый.
Иван Толстой: А вы подтверждаете, есть такие воспоминания о Бялом, когда говорят, что Бялый был гениальным лектором?
Борис Аверин: Бесспорно!
Иван Толстой: А в чем гениальность была?
Борис Аверин: Он выходил на кафедру, клал текст и начиналось медленное чтение. Слово за слово, и – вдруг – вы начинали чувствовать текст. У него были и общие теории, но это медленное чтение производило неизгладимое впечатление. Текст открывался, что называется, герменевтика, потому что есть знание и есть понимание. Я знаю основную идею "Войны и мира", но она никому не нужна, а вот прийти к пониманию… И герменевтика только через медленное чтение, через соотнесение различных кусков текста. И вот это сейчас, по-моему, самое сильное направление. А Бялый читал так, что в актовом зале висели на люстрах. И я посещал один из спецкурсов, а на следующий год собирался идти на Проппа, но не пошел, а пошел на Бялого. И это была глубокая ошибка, потому что через год Пропп умер и я так никогда и не слушал его лекции. А это зря, таких людей надо слушать.
Иван Толстой: Проппа при этом никто не хвалит как лектора, все знают его классические книжки, а как о лекторе о нем никто не говорит.
Борис Аверин: Примерно то же, что и Ямпольский. Потому что когда Ямпольскому было уже 90 лет, я принес ему комментарий. Я написал комментарий к "Истории моего современника", шесть печатных листов. Он берет комментарий, листает. Он мне отметил двадцать восемь ошибок без любого справочника, все наизусть!
Это судьба Максимова. На Дмитрия Евгеньевича Максимова поступил донос, что он на лекциях произносит слово "эсхатология". Что такое "эсхатология", никто не знает, но это явно церковное. Нельзя. Его вызвали и предложили ему уйти на пенсию. Так же выгнали на пенсию Ямпольского. Представляете, когда человек читает комментарий: "М.Н.? Да не М.Н., а Н.М.". В мелочах. "Вот вы пишете о романе Клюшникова "Марево". У вас написано 1863 год, а это – 1862-й". И так по всему тексту. Вот такая у нас была команда.
Иван Толстой: Познакомлю наших слушателей с небольшим фрагментом из одной работы Бориса Валентиновича, с его легким стилем и ясной мыслью. Статья называется "Гений тотального воспоминания".
"Набоков действительно обладал "всеобъемлющей памятью", прежде всего – на бесчисленное количество текстов, от "Илиады" до сочинений третьестепенных современных ему писателей. Его тексты, перенасыщенные реминисценциями, позволяют филологам, их изучающим, проявить весь блеск собственной эрудиции. Но, сколь бы проницательны ни были посвященные этому аспекту его творчества исследования (…), у Набокова она производит впечатление принципиальной неисчерпаемости.
Столь же феноменальна была его "память чувств", прежде всего – зрительная, связанная со множеством оптических эффектов. Набоков не случайно любил употреблять слово "паноптикум" как в его исконном значении (от "пан" – охватывающий все, в целом, и "оптикос" – зрительный), так и в значении словарном: паноптикум – собрание уникальных предметов искусства или искусственных подражаний (например, восковых фигур).
"Гениальность" набоковской памяти проявлялась и еще в одном отношении. Он очень хорошо помнил свою жизнь: младенчество, детство, отрочество, великое множество мелочей, связанных с разными возрастными этапами, – мелочей, которые большинство людей обычно забывают безвозвратно.
Гений памяти действительно покровительствовал Набокову – неудивительно, что сюжет "тотального воспоминания" неоднократно разворачивается в его произведениях. Со слова "воспоминание" начинается первый романный текст Набокова. "Машеньке" предпослан эпиграф из первой главы "Евгения Онегина":
Воспомня прежних лет романы,
Воспомня прежнюю любовь...
"Романы" здесь имеют двойной смысл: это любовные истории, но это и книги о любовных историях. Эпиграф приглашает читателя разделить воспоминание одновременно литературное и экзистенциальное. Первое и второе сцеплены неразъемлемо и заполняют собой все пространство текста. Сюжет воспоминания оттесняет постоянно ожидаемое возобновление любовного сюжета – пока не вытесняет его за пределы книги и жизни. Это обманутое читательское ожидание необходимо Набокову как способ резко провести черту между собственной поэтикой и традиционным рассказом о некогда пережитом прошлом, в котором воспоминание играет служебную, а не царственно-центpальную роль".
И финал этой статьи:
"Мы лишь наметили тему, которая существенно смещает представление о "ностальгическом комплексе" как ведущем мотиве набоковского творчества. Не тоска по утраченному раю детства, а "сладость изгнания", "блаженство духовного одиночества", дар Мнемозины, обретаемый по изгнании, – таковы коррективы, вносимые темой "тотального воспоминания" в восприятие многих набоковских сюжетов. Другой аспект его творчества, на который затронутая здесь тема заставляет взглянуть несколько иначе, чем принято, – литературная игра. Она часто кажется самоцелью, на деле же она служит иным, высшим, целям, и, быть может, главнейшей, является обращенное Набоковым к его читателю приглашение к "тотальному воспоминанию", понимаемому как духовный акт воскрешения личности".
Так пишет Борис Аверин в своей работе "Гений тотального воспоминания". Продолжаем нашу беседу в доме Бориса Валентиновича под Петербургом.
А были ли у вас учителя или люди, которых вы позволяете себе назвать учителями, но которые вовсе не были при этом преподавателями школы, филфака или чего-то? Были у вас такие отчимы-учителя, на стороне, ходом коня кто-то учил вас в жизни чему-то?
Борис Аверин: Я помню несколько ярких высказываний людей, которые запомнил на всю жизнь. Самое начало первой перестройки, 1957 год. Тогда же главная идея была у Хрущева, что был великий Ленин, а Сталин – это культ личности. Я что-то подобное сказал одному замечательному человеку, и вдруг он произносит такой дикий текст: "Бросьте вы! Ленин - это политическая проститутка!" Я ошалел. Потом-то я понял, что у Ленина и Сталина разница небольшая, просто Ленин не успел развернуться. Хотя развернулся. То, что Бунин ваш злобный пишет в "Окаянных днях", как человек работал в учреждении, учреждение закрылось, он приходит к большевикам и говорит, что у него семья, дети, ему негде работать, у него нет зарплаты, а ему отвечают: вот вам два ордера на обыск, получайте, заходите, берите. Это – ЧК при возникновении. А потом уже были удостоверения, потом уже был пистолет, право расстреливать классово чуждых людей. Ведь что пишет (не к ночи будет помянут, не хочется фамилию произносить) в первом номере "Современных записок"? Не важно, как человек относился к советской власти, нам важно его социальное происхождение. Если социальное происхождение чуждое нам, он может быть расстрелян без суда и следствия. Так впрямую это не говорилось, потому что потом отменили смертную казнь. Большевики отменили, чекисты. Но там была такая поправочка – "но не в районе боевых действий". Оказалось, что вся Россия – это район боевых действий, поэтому можно было спокойно расстреливать без суда и следствия. Вы даже плохо себе представляете, насколько все были напуганы. Когда в газетах "Правда" и "Известия" регулярно пишутся списки расстрелянных. И в чем они виноваты? А если возьмете знаменитые тома "Мартиролога", это уже 1937 год, кто был на первом месте, кого чаще всего арестовывали и расстреливали в 1937 году? Крестьяне. Потому что еще оставались те крестьяне, которые умели и любили работать. И их быстренько скручивали. На втором месте – рабочие, которые умели работать, которые хорошо получали. У них семья – жена и пятеро детей. Такой был знаменитый член Верховного совета, он единственный умел тачать эти огромные валы для пароходов, он был богат. Вот их сажали. Потом шли священники – один миллион священнослужителей был, а к 1937 году осталось несколько тысяч. Остальные были за ненадобностью убраны. И потом жалкий процент интеллигенции. А мы все: ой, Бабеля арестовали! А интеллигенция довольно быстро смирилась.
Иван Толстой: И все-таки вернемся к ходу коня. Кто еще ваш учитель, если не напрямую, не преподаватель, а учитель жизни, учитель стойкости, учитель иронии, чувства юмора?
Борис Аверин: Моя соседка. Она свято верила в постановления партии и правительства. У нее глаза горели. Она приходит: "Ты считал Постановление 22-го съезда? Не читал? Ты представляешь, как мы будем жить через четыре года? Все вырастет!" У нее глаза сияли. Я смотрел: боже, неужели такое может быть?! Ты посмотри, в магазине ничего нет. Гнилая картошка, за мясом надо стоять два часа. Какое процветание? Это отрицательный пример, но он почему-то запомнился. Я понимал, что так не надо. Такая святая вера – она плохая, что-то здесь не так.
А рядом жила другая бабушка, которая тоже много повлияла. Она работала в колхозе, потом ей удалось бежать из колхоза, она приехала в Ленинград и устроилась на "Скороход", она огромным шестом резину размешивала. Представьте себе огромный резервуар, где кипит резина, а вы размешиваете. Не дамское это дело и невероятно вредное. Она мне говорит: "Какое счастье было! Мне дали комнату в общежитии на пять человек, каждые две недели зарплата, в магазинах есть все" (это для нее "все", потому что в деревне ничего не было). Голубушка, до чего надо довести человека, чтобы он работал на фабрике "Скороход", жил в общежитии на пять человек в комнате и радовался, что ему каждые две недели дают зарплату. А она восхищалась: как хорошо вы живете! И, конечно, очень сильное влияние села, крестьян. Был у меня такой учитель в деревне Филисово на Волге, Федор Федорович. Ко мне приходит сосед по дому и предлагает большой таз крыжовника за пятьдесят копеек. А через три дня он мне приносит большой тазик малины. Сколько? Это подарок. Федор Федорович, который был нравственным лидером в этой деревне, когда узнал, что этому дураку из Ленинграда тот всучил за пятьдесят копеек крыжовник, сказал: "Набери нормальных ягод и подари. Чтобы этого больше никогда не было, чтобы ты не надувал этих дурных горожан". И он был нравственный центр. Я с ним часто беседовал, он был человек с хорошим русским языком, очень просвещенный. В экспедициях я встречался с подобными людьми. Ему поставили диагноз рак, так он десять лет жил после этого. Все умирали через полгода. А это потому, что нравственность его спасала. И все понимали, что Федора Федоровича надо слушаться, потому что не обманет. Это одна из многих встреч, которые сильно повлияли.
А до Федора Федоровича, когда я был в экспедиции, у меня было несколько бабушек. Вот это – наука. Бабушка была Любава, я у нее жил в деревне, собирал фольклор. У нее было шесть или семь дочерей, зятья приезжали на воскресенье и выпивали очень хорошо. А мне же интересно побеседовать. Но не тут-то было. Они разливают стакан водки, потом второй. И меня уже нет, я уже сплю. А они такие добродушные. Я говорю: "А у нас – иначе. У нас, где я живу, там разливает-то гость, а не хозяин. Я должен разливать, а не вы". Поэтому я им – по стакану, а себе шестьдесят грамм. Так вот эта Любава будит меня как-то и говорит: "Я в магазине-то купила… Яйца называются…. Варю, варю и никакого навара!" В первый раз на село привезли яйца. Там нет куриц.
И вот я уезжаю, мне надо ей что-то подарить, а в магазине нет ничего. Там была хорошая тресковая печень в банках, но они ее не ели. Но тут она ко мне обращается с просьбой. Поедешь в Архангельское (она деревню знает Архангельское, а не город), так вот на Соловках поставь свечечку от меня. Я понимаю, что бабушке Любаве – что Архангельское, что Соловки, в общем, это где-то вместе. А Соловки это очень далеко, это надо целую ночь на пароходе плыть, поэтому я решаю, что я поставлю в Архангельске свечечку. Но что-то меня смущает, и тем не менее, сажусь на пароход, еду на Соловки и в этом соборе (его уже очистили от этого всего) ставлю свечечку. И вот что интересно. Когда я поставил свечку, то я почувствовал, что это правильно, но смысла-то никакого нет. Добро должно быть абсолютно бескорыстным.
Иван Толстой: Как таз с малиной.
Борис Аверин: Да, совершенно не должен вмешиваться разум. Сказала бабушка, вот и давай. И я почувствовал облегчение, что я поступил правильно. Вот бабушка меня таким образом воспитала.
Иван Толстой: Борис Валентинович, давайте теперь перевернем мой вопрос. Вот теперь учитель – вы, и к вам приходит юное создание прелестное и говорит: Борис Валентинович, научи как быть, кем быть, что делать?
Борис Аверин: Вы исключительно молодой и наивный человек. Не задают этот вопрос современные студенты.
Иван Толстой: А мы представим себе.
Борис Аверин: Я сейчас читаю для второго и четвертого курса. Второй курс – это очень маленькие дети. Я спрашиваю: "Кто из вас читал Евангелие?". Никто. И когда я начинаю рассказывать, что "Война и мир", как и вся русская литература, построена на религиозной тематике, а "Война и мир" это путь к Богу Пьера, Андрея, Натальи, Марьи и так далее, и у каждого свой, – неинтересно. И вообще литература неинтересна. Я пытаюсь понять, в чем дело. Это – современность. Современность заключается в том, что всякая наука должна иметь применение. Какое применение может иметь литература? Никакого.
Иван Толстой: Ну, что понимать под словом "применение".
Борис Аверин: Вот я окончил, и что я буду делать с "Войной и миром"? Раньше было много музеев, Институт русской литературы, издательства, радио, телевидение, и устраивать детей филологов было нетрудно. Я практически всех устраивал на какую-то работу. А сейчас я никого не могу устроить. Два года назад в Петербурге была такая хорошая радиостанция, где я регулярно делал передачи про современную литературу, потому что я читаю всю современную литературу. Теперь нет такого, теперь, чтобы рецензию опубликовать, я отнесу ее в "Звезду", через полгода опубликуют. Так вот, чтобы кто-нибудь задал вопрос, как надо жить и что нужно делать, – нет таких вопросов.
На западном отделении у меня был такой курс, они постоянно задавали мне вопросы про произведения. Я лекцию практически не читал, все время отвечал на вопросы. Сейчас я говорю: "Вопросы есть?" – "Вопросов нет". Никто из студентов никаких вопросов не задаёт.
Иван Толстой: Тем не менее, вы были бы не вы, если бы вы не вкладывали далекоидущие, долгозреющие идеи, если бы вы зерно не заранивали в землю в своих лекциях. Чему вы учите на самом деле? Вроде бы литературе, а на самом деле…
Борис Аверин: На самом деле, если брать терминологию, то это элементарное толстовство, без крайности. Я не пойду с нищими в ночлежку, но тем не менее, делать карьеру, зарабатывать много денег, завидовать ближнему, осуждать ближнего – ни в коем случае. Не суди. Подставь другую щеку.
Когда я начал осваивать толстовство, я помню яркий эпизод. Шел дождик, я подхожу к магазину, мне нужно купить пачку "Родопи". Магазин пустой, беседует кассирша с продавщицей. Я говорю: "Будьте добры пачку "Родопи". А они беседуют про мальчиков. Я послушал, а потом говорю: "Простите великодушно, можно мне пачку "Родопи"?". Ответ – молчание. Я снова повторяю. А мне говорят: "Вот ты шары-то налил, а теперь требуешь чего-то". Тут бы мне надо ответить, что, мол, повежливее нельзя? Я говорю: "Девушка, вы меня обижаете". Это шел дождь, и у меня такая была прическа на лоб. Вы знаете, она покраснела. Если бы я ответил ей как надо – мать-перемать. Нет, не обижайся, прости. Но у нее действительно интересный разговор.
И вот это и есть толстовство. Встань на точку зрения другого человека, не осуждай, даже если он явно не прав, потому что мы все неправы друг перед другом. И не осуди.
Перепеку я недавно всю наизусть выучил Толстого с императорами. Александру III он говорит: понимаете, их надо простить. У вас есть два способа – или жестокость, или какие-то либеральные последствия. Ни то, ни другое не работает. Вот они убили, а вы скажите: вы виновны, вы страшно виновны, но мы вас прощаем и не казним. Казнили. Вот если бы послушались Толстого и Владимира Соловьева и сказали: вы страшно виноваты, но убивать людей нельзя. Тем более что вы начитались Гаршина, но Гаршин что говорит? Он вырвал цветок красный и прижал к груди. "Если ты поднимаешь знамя красное, то это знамя должно быть смочено твоей собственной кровью, но не чужой". Это я процитировал своего учителя, статья о Гаршине. Я процитировал, а редактор тома говорит, что это банальность, это вычеркните. И ссылку убрали. Я говорю: "Абрам Константинович, извините, вычеркнули ссылку". – "Да ну, ерунда, никто не заметит". Потому что убить Государя императора? Ну и что? Почитайте Горького, он пишет в "Городке Окурове", что пришло сведение, что убит Александр II, понять этого никак невозможно, а дальше – опять городские новости. Никакого впечатления на российскую действительность это действие не произвело. А если бы вы простили? Я думаю, так бы активно не стало развиваться. Надо было прервать эту жестокую последовательность, когда вместо того, что возлюбить ближнего, мы хотим менять социальный строй. Да, давайте, меняйте, только вы не хлебом единым, не получится у вас, равенства бытового не будет никогда.
Вот у вас ни одного седого волоса нет, а я – седой как лунь. Ну, неравенство. И во всем неравенство. А вы хотите мне бытовое равенство? Получится жуткая борьба и зависть, если мы будем добиваться бытового равенства. И чему Толстой учит? Говорят, что я отказываюсь от Бога, от Христа. Да наоборот. Когда я читал критику догматического богословия, я первые пять страниц читал с ужасом. Это страшное обвинение церкви в том, что они затемняют учение Христа. А потом я прочел воспоминания дочери. Он дает переписывать жене, жена переписала четыре страницы, потом в жутком возмущении врывается в кабинет и говорит: "Я этого переписывать не буду!" Страшно, правда, потому что он очень сильно ополчился на церковь. Я подхожу к священнику и говорю, что я вашу всю службу прослушал, я старославянский учил, но я половины не понял, о чем вы тут говорите, а ваши прихожане, которые не знают, они же вообще ничего не понимают, почему бы не перейти на русский? А он мне говорит: "Можно, но будет некрасиво". На старославянском красиво звучит. Конечно, гимназисты изучали старославянский, а сейчас его никто не знает. Ну, служба – красиво, хор, но в целом содержание не доходит никак. И это немножко обидно. Мне рассказывали, что в Москве в одной церкви ввели службу на русском языке. Очереди стояли километровые. Потом закрыли. Нельзя. Надо чтить язык и веру предков.
Иван Толстой: Красота и есть воздержание.
Борис Аверин: Вы-то понимаете. А вы учились на русском отделении?
Иван Толстой: На русском. И по старославянскому была твердая двойка.
Борис Аверин: А у кого диплом писали?
Иван Толстой: По старославянскому у меня была Татьяна Всеволодовна Рождественская.
Борис Аверин: Ну, она тогда маленькая была.
Иван Толстой: Но я таким старым уже учился, у меня вся жизнь прошла, я до этого в медицинском институте учился. Потом работал экскурсоводом в Пушкинских горах. А когда поступил на первый курс, преподавателем у меня была только что окончившая филфак моя одноклассница, и она все время была пунцовая, ей было так неудобно – сидел на первой парте большой, толстый я, а она мне преподавала. А я ее Люська и на "ты", и за косы дергал в школе.
Борис Аверин: У меня похожий был эпизод. Я, когда окончил, я сразу же после окончания начал преподавать. Ко мне приходит однокурсница, с которой я учился и сидел на одной парте. А она отстала, не успевала, ей трудно было учиться. Она говорит: "Поставь мне отметку". – "Конечно!". И пишу ту оценку, которую она заслуживает, – "удовл.". Она так оскорбилась! Больше со мной не разговаривала.
Иван Толстой: Это не по-толстовски!
Борис Аверин: Но я же ее не спрашивал. А вот недавний ответ, чтобы позабавить вас в конце нашей беседы. Девочка отвечает "Войну и мир", я говорю: "Скажите, пожалуйста, а в чем там дело?" – "Понимаете, там описывается война, а вместе с войной описывается и мир". – "Отличный ответ! А с кем была война?" Она говорит: "С турками".
Иван Толстой: А кто победил?
Борис Аверин: А черт его знает! У нас есть кафе, называется "Бородино". Я спросил официанта, что такое Бородино? "Откуда я знаю?" Последняя байка была два года назад на факультете журналистики. "Анну Каренину" отвечает студент. Я говорю: "А чем заканчивается роман?" – "Она бросается под поезд". – "Правильно! А дальше что?" Он задумывается и говорит: "Но не умерла".
Иван Толстой: В прошлый раз мой собеседник рассказывал о своей жизни до обращения к филологии. Если я не путаю, он как аэролог умеет разгонять тучи и останавливать небесное светило, но русская литература показалась ему интереснее.
Борис Аверин: В школе русскую литературу я не любил. Когда мне объяснили, что "лишний человек" это Евгений Онегин, потому что уже прошло Декабрьское восстание и все умные люди (мы-то с вами знаем, что это было до восстания) были не нужны в этой стране, декабристы уже посажены. Вот эти умные "ненужности" – Печорин, Онегин… Ну, скучно. А у меня еще хорошая память была, поэтому, когда учительница открывает журнал, смотрит на первую строчку, а нам задано читать "Мцыри", я открываю страницу, секунды две читаю, меня называют, и я начинаю цитировать то, что запомнил. Я запоминал, но в целом было неинтересно. А потом учительница вызвала в школу маму и сказала, что единственный человек, о котором она по-настоящему беспокоится, который может не написать сочинение, это ваш сын. Мама и папа никогда не интересовались, как я учусь, у каждого свои заботы, у тебя – учеба, так и учись. А я тоже не понимаю, почему она так. У меня всегда было три-четыре по сочинению. Дело в том, что я в одном из сочинений процитировал Белинского, а Белинского можно было цитировать только те мысли, которые в учебнике, а я Белинского читал. Она боялась, что крамола у меня в сочинении выскочит какая-нибудь. Но написал, получил четверку.
А после зимовки уже начинается университет, и вот здесь я попадаю в совершенно уникальную ситуацию. У нас на кафедре еще те профессора, которые в 30-е годы, – Дмитрий Евгеньевич Максимов, который дружит с Андреем Белым, Мануйлов, который секретарем был у Толстого, который с Вячеславом Ивановым в Баку встречался. Он мне рассказывал, как он идет к Вячеславу Иванову, а тут нищий сидит и милостыню просит. Он думает: давать или не давать? С одной стороны, все жулики, а с другой, как-то не давать милостыню… Звонит, выходит Вячеслав Иванов. "Ну как, следует давать милостыню или нет?" А он еще был хиромант, он предсказывал по линиям. Потом я занимался этой наукой, там есть какой-то смысл. Как и по почерку, по линиям можно определять.
Иван Толстой: Я видел в детстве, как Виктор Андронникович гадает по руке.
Борис Аверин: Я ему говорю: "Погадайте мне". – "Неужели вы хотите знать свое будущее?" – "Не хочу". – "Вот и не надо!" А правда, зачем мне знать свое будущее? Не хочу. Вот такая публика была на кафедре особая. Григорий Абрамович Бялый, друг Гуковского и Бориса Михайловича Эйхенбаума. Рассказывает, что идет с Гуковским и говорит, что ему предлагают место замминистра культуры. А Бялый говорит: "Послушай, ты же выдающийся лектор, прекрасный специалист, что тебе это? Вот твое призвание, вот где ты на месте". Он отвечает: "Не рассуждай о том, чего не понимаешь". Это – любовь к власти. У Бялого этого не было, а у Гуковского, вероятно, было.
За столом сидим, протягивает мне его жена хлеб, а я говорю: "Нет, я пирожок возьму". Он говорит: "Вы невольно повторяете Мариенгофа. Он здесь сидел на вашем месте, и когда я предложил ему хлеб, он говорит, что хлеб он будет есть дома, а тут давайте пирожки". Я застал этот круг людей.
У нас в 415-й школе был учитель рисования, он преподавал еще до революции. Я рисовать не умел, я с ним не общался, но то, что он человек другой формации, видно было сразу. Это какое-то другое воспитание. Очень быстро советская власть перековала народ. Сначала уничтожили религию, потом Надежда Константиновна сказала, что нельзя читать Достоевского, Владимир Ильич подтвердил: буржуазная литература. Джека Лондона они изымали из библиотек. И постепенно, поколение за поколением, культура в этой стране исчезала. Поэтому можно вырубать парки.
Советский народ – это что-то невероятное! Мои профессора хорошо относились к молодежи. Я сейчас даже фамилию не знаю новых преподавателей. А когда я поступал, заведующий кафедрой говорит: "Я хочу взять нового преподавателя, меня немножко пугает, что он партийный". Я говорю: "Не пугайтесь, дело в том, что он работал в газете, его однажды вызвал главный редактор, а он жил в коммунальной комнатушке шесть метров с женой и сыном, и сказали, что они хотят назначить его начальником отдела, а после этого они ему дадут квартиру. Но надо вступить в партию. У них начальников отдела не бывает беспартийных". Это то, что я про отца рассказывал – он вступил и правильно сделал, и никто его не осудит. Что, он будет мучить жену и ребенка в коммунальной квартире? Тем не менее, заведующий кафедрой спрашивает аспиранта, это было нормально. А все эти учителя – Мануйлов, Максимов, Бялый – приглашают в гости, беседуют, им интересно, что думает новое поколение. А что мы думали? Неизвестно. Я пришел, хочу писать диссертацию про "Жизнь Арсеньева" Бунина. Мне говорят: нет, пишите про Короленко, "История моего современника".
Иван Толстой: А что? Хорошая книга.
Борис Аверин: Хорошая книга, но там исследовать нечего.
Иван Толстой: Позитивистская, конечно, да.
Борис Аверин: Не совсем. У него есть глава, которая называется "Потерянный аргумент". Он же был очень религиозный в детстве, а потом он открыл доказательство бытия Божия и забыл. А потом уже, когда он писал статьи, там всегда были слова, что он верующий человек. Но в чем была особенность этой русской интеллигенции? Она была в том, что родители, воспитанные на Чернышевском, Добролюбове, Писареве, я уже не говорю про Зайцева, они же были все атеисты. Поэтому родители их усваивали, что надо переделать социальную основу общества и тогда будет в мире мир. Ни черта не получится.
Вот такой пример. Сидит мальчик за столом, столовая в дворянском доме, крахмальная скатерть, хрусталь, на тарелках всякая еда, сливочное масло, сметана. А за окном бегает без штанов голодный крестьянский ребенок. И вот наш юный толстовец, скажем, ему девять лет, говорит: "Папа, смотри, у нас всего вдоволь, а на улице бегает голодный мальчик. Как это?" На что родители отвечали, это такой ответ распространенный: "Тебе много дано, но с тебя много спросится". Вот этот самый долг перед народом. Хорошо пригласить конкретного мальчика и накормить. Нет, нужно изменить социальные условия, нужно отдать долг народу. Такое своеобразное толстовство, только посильнее, по-настоящему.
Что такое толстовство, я понял еще в школе, а потом я преподавал раз в месяц в городе Нальчике зарубежную литературу. Меня Сокуров пригласил. Я говорю: "Будем изучать зарубежную литературу, будем читать Евангелие от Иоанна". - "Какая же это зарубежная литература?" – "А такая. Что, ты думаешь, это русская литература?" Там есть козий рынок, где бабушки из козьей шерсти делают разную одежду, а мне очень нравились рубашки нательные мягкие, козьи. Я подхожу: "Сколько это стоит?" – "150 рублей". – "Сколько?!" – "150 рублей, ведь это недорого". Боже мой! Я же знаю процесс: надо козу вырастить, накосить травы, ее накормить, потом ее остричь, потом из этой шерсти сделать нитки, а потом из этих ниток сделать рубаху. После этого я иду в кафе в Нальчике, где чашка кофе стоит 150 рублей. Вот бабушка год ткет эту рубашку, а я за десять минут выпиваю. Вот это – толстовцы. Неудобно. Правда, я у бабушки купил три рубашки. А она подумала, что я считаю, что это дорого. А там все цены такие были из козьих вещей.
Так вот, образование мое продолжалось в университете, и это было действительно серьезное.
Иван Толстой: Вы взялись за "Историю моего современника" Короленко?
Борис Аверин: Да. Я два года ничего не делал, читал антисоветскую литературу в огромном количестве. Вашего Ходасевича "Некрополь" до сих пор помню.
Иван Толстой: В каком году вы его прочли?
Борис Аверин: В 1965-м.
Иван Толстой: Ага, хитренький! А я вас в 1980 году, после лекции, в коридоре спросил (о Блоке была лекция). У Ходасевича было, что Блок потом сознавался, что сам не понимает смысла своих стихов. Я вас спросил, вроде никого рядом не было, мы шли с вами вместе по коридору, я вас спросил: а вот Ходасевич как раз говорил, что Блок не понимал своих стихов. И вы изобразили, что не знаете, о чем я говорю. Тертый калач были! Вы, конечно, за провокатора меня приняли.
Борис Аверин: Нет, вы не похожи на провокатора. А у меня с Ходасевичем была история. Я в Москве занимался на социологическом семинаре, а там были два человека, у которых антисоветская литература началась, как у меня, – на полках книги, и там все сплошная антисоветчина. Я у них набирал книги, прочитывал и возвращал. А я не выдержал, еду в поезде сидячем, думаю, достану "Некрополь", книжка историческая. Достал, читаю, вдруг подходит проводник: "О! Это интересно!" Я так напугался! А он, оказывается, любит историческую литературу. Я просто побледнел, он говорит: "Знаете, я люблю историческую литературу, а тут у вас название это явно историческое". Он понимает, что некрополь – это много богов в одном здании, но то, что это антисоветчина… А какая там антисоветчина? Это же воспоминания.
Иван Толстой: Вообще хороший был дом, где вы это взяли, потому что "Некрополь", оригинальное то издание, безумно редкое было, туда бомба попала, в брюссельский склад.
Борис Аверин: Это был очень важный человек в Москве. Их было двое. Одна из них из одного города в кавказской республике, папа у нее был крупный партийный деятель, Эмма Чамокова. Она на уроках литературы преподавала "Архипелаг ГУЛАГ" Солженицына. Самый главный у него рассказ, когда его из поезда вынимают, допрашивают, а он ничего не знает, потому что он в лагере сидит и сейчас возвращается. И она преподавала. На нее донос написали. Всегда найдется человек, которому хочется восстановить справедливость.
Иван Толстой: Мир не без добрых людей.
Борис Аверин: Папенька, конечно, ее отстоял, но сказал, что она должна поехать в Москву, потому что здесь ей делать нечего после такого. Она поехала в Москву, стала работать в библиотеке, и там у нее образовался этот круг людей с такой литературой. Еще вторая дама была невероятно образованная, я у нее много чему научился. Социологии, в частности, потому что они не какую-то марксистскую социологию учили, это же для детей дошкольного возраста, он учили нормальную, хорошую социологию, западную, но не Маркса.
Иван Толстой: Как звали даму?
Борис Аверин: Никольская. Она очень много мне дала, очень много помогала, книжки давала, мы по социологии с ней много беседовали. Надо было как-то поменять мышление, это сложно было. Вот сейчас хорошо, потому что мы понимаем, что человек не просто социальное существо, как ваш любимый Маркс говорил, мы живем в обществе и не можем от него не зависеть. Можем не зависеть запросто, но общество не определяет нас, определяют гораздо более сложные процессы. Я там очень долго учился социологии. Это была Москва, а я в аспирантуре учился. Я езжу в Москву, занимаюсь социологией и знакомлюсь со всякими людьми.
Сижу я как-то в кафе "Прага", там можно было вполне за полтора рубля пообедать, вдруг ко мне подсаживается сильно пьяный человек и говорит: "Слушай, закажи мне стакан вина". Пожалуйста! Заказываю стакан вина, он выпивает, тут же трезвеет, у него проясняются глаза, он говорит: "Смотрю я на тебя и полагаю, что ты гуманитарий, ибо только гуманитарий мог так оскудеть телом". Москвичи, они же с юмором. Москва сильно воспитывала, я очень любил Москву, а сейчас не люблю, сейчас эти небоскребы… Больница Склифосовского, а над ней нависает двадцатиэтажный дом, и нет больницы. А Тверской бульвар! Боже мой, какая безвкусица, какие надписи, какой шрифт! У нас нет такого, кстати, у нас Невский более или менее благообразен.
Иван Толстой: Ну, как сказать. Мой сын много лет не был в России, прилетели в Пулково, на метро доехали до Невского проспекта, выходим, а он говорит: "Что это за Соединенные Штаты? Ты посмотри напротив – каждая надпись на английском языке!".
Борис Аверин: Я бы ответил ему: голубчик мой, вспомни 18–19-й век – все надписи по-французски. Большинство надписей на Невском проспекте. Но сейчас, действительно, перебор с английским языком.
Иван Толстой: А я иду по солнечной стороне Невского проспекта, на все смотрю как приезжий провинциал, и на двери одного из кафе крупно, торжественно, с понтами написано – "Meat balls". И в скобках мелко, скромно так – "фрикадельки".
Борис Аверин: У нас была рядом с Балтийским вокзалом замечательная пельменная, теперь ресторан вот этих гамбургеров. Какой-то кошмар. Так было хорошо: перед электричкой зайдешь, закажешь себе пельменей, стакан вина, сидишь и ждешь электричку. А теперь там эти огромные батоны, внутри которых напихана всякая гадость.
Иван Толстой: А кто был руководителем вашей аспирантуры?
Борис Аверин: Когда я начинал дипломную работу, у меня была Людмила Владимировна Крутикова, жена Федора Абрамова. Через Людмилу Владимировну Крутикову я и познакомился с Федором Александровичем, который меня в какой-то момент поразил. Он был человек с юмором, а у Людмилы Владимировны никакого юмора не было, он не может с ней пошутить. И я помню, что грубовато он так говорил: "Люська, у нас что, марксизм наступил? Где ужин?" У него было ругательство "марксизм", потому что он – крестьянин, а Маркс нам говорит, что вся сила в пролетариате, в фабричном рабочем, который работает на станке, выкручивает гайки на этом станке, а потом кушает водку. Или крестьянин, который хранит язык, фольклор, возделывает землю. Вот суть земли – крестьянин. А какой там пролетариат! Вот поэтому и ругательство было у него – "марксизм". Он сохранил язык архангельского мужика.
Потом, когда я дважды ездил в экспедицию по речке Пинеге, очень интересно было. Я беседовал с каким-то работником, говорю: "Вот какой у вас на Пинеге вырос писатель – Федор Александрович Абрамов". Он: "Да, хороший писатель, да не все правильно "понимат". Он чувствовал, что там какой-то есть подтекст.
У него предки из духовенства. Но он очень много просвещал. А потом у меня стал Григорий Абрамович Бялый.
Иван Толстой: А вы подтверждаете, есть такие воспоминания о Бялом, когда говорят, что Бялый был гениальным лектором?
Борис Аверин: Бесспорно!
Иван Толстой: А в чем гениальность была?
Борис Аверин: Он выходил на кафедру, клал текст и начиналось медленное чтение. Слово за слово, и – вдруг – вы начинали чувствовать текст. У него были и общие теории, но это медленное чтение производило неизгладимое впечатление. Текст открывался, что называется, герменевтика, потому что есть знание и есть понимание. Я знаю основную идею "Войны и мира", но она никому не нужна, а вот прийти к пониманию… И герменевтика только через медленное чтение, через соотнесение различных кусков текста. И вот это сейчас, по-моему, самое сильное направление. А Бялый читал так, что в актовом зале висели на люстрах. И я посещал один из спецкурсов, а на следующий год собирался идти на Проппа, но не пошел, а пошел на Бялого. И это была глубокая ошибка, потому что через год Пропп умер и я так никогда и не слушал его лекции. А это зря, таких людей надо слушать.
Иван Толстой: Проппа при этом никто не хвалит как лектора, все знают его классические книжки, а как о лекторе о нем никто не говорит.
Борис Аверин: Примерно то же, что и Ямпольский. Потому что когда Ямпольскому было уже 90 лет, я принес ему комментарий. Я написал комментарий к "Истории моего современника", шесть печатных листов. Он берет комментарий, листает. Он мне отметил двадцать восемь ошибок без любого справочника, все наизусть!
Это судьба Максимова. На Дмитрия Евгеньевича Максимова поступил донос, что он на лекциях произносит слово "эсхатология". Что такое "эсхатология", никто не знает, но это явно церковное. Нельзя. Его вызвали и предложили ему уйти на пенсию. Так же выгнали на пенсию Ямпольского. Представляете, когда человек читает комментарий: "М.Н.? Да не М.Н., а Н.М.". В мелочах. "Вот вы пишете о романе Клюшникова "Марево". У вас написано 1863 год, а это – 1862-й". И так по всему тексту. Вот такая у нас была команда.
Иван Толстой: Познакомлю наших слушателей с небольшим фрагментом из одной работы Бориса Валентиновича, с его легким стилем и ясной мыслью. Статья называется "Гений тотального воспоминания".
"Набоков действительно обладал "всеобъемлющей памятью", прежде всего – на бесчисленное количество текстов, от "Илиады" до сочинений третьестепенных современных ему писателей. Его тексты, перенасыщенные реминисценциями, позволяют филологам, их изучающим, проявить весь блеск собственной эрудиции. Но, сколь бы проницательны ни были посвященные этому аспекту его творчества исследования (…), у Набокова она производит впечатление принципиальной неисчерпаемости.
Столь же феноменальна была его "память чувств", прежде всего – зрительная, связанная со множеством оптических эффектов. Набоков не случайно любил употреблять слово "паноптикум" как в его исконном значении (от "пан" – охватывающий все, в целом, и "оптикос" – зрительный), так и в значении словарном: паноптикум – собрание уникальных предметов искусства или искусственных подражаний (например, восковых фигур).
"Гениальность" набоковской памяти проявлялась и еще в одном отношении. Он очень хорошо помнил свою жизнь: младенчество, детство, отрочество, великое множество мелочей, связанных с разными возрастными этапами, – мелочей, которые большинство людей обычно забывают безвозвратно.
Гений памяти действительно покровительствовал Набокову – неудивительно, что сюжет "тотального воспоминания" неоднократно разворачивается в его произведениях. Со слова "воспоминание" начинается первый романный текст Набокова. "Машеньке" предпослан эпиграф из первой главы "Евгения Онегина":
Воспомня прежних лет романы,
Воспомня прежнюю любовь...
"Романы" здесь имеют двойной смысл: это любовные истории, но это и книги о любовных историях. Эпиграф приглашает читателя разделить воспоминание одновременно литературное и экзистенциальное. Первое и второе сцеплены неразъемлемо и заполняют собой все пространство текста. Сюжет воспоминания оттесняет постоянно ожидаемое возобновление любовного сюжета – пока не вытесняет его за пределы книги и жизни. Это обманутое читательское ожидание необходимо Набокову как способ резко провести черту между собственной поэтикой и традиционным рассказом о некогда пережитом прошлом, в котором воспоминание играет служебную, а не царственно-центpальную роль".
И финал этой статьи:
"Мы лишь наметили тему, которая существенно смещает представление о "ностальгическом комплексе" как ведущем мотиве набоковского творчества. Не тоска по утраченному раю детства, а "сладость изгнания", "блаженство духовного одиночества", дар Мнемозины, обретаемый по изгнании, – таковы коррективы, вносимые темой "тотального воспоминания" в восприятие многих набоковских сюжетов. Другой аспект его творчества, на который затронутая здесь тема заставляет взглянуть несколько иначе, чем принято, – литературная игра. Она часто кажется самоцелью, на деле же она служит иным, высшим, целям, и, быть может, главнейшей, является обращенное Набоковым к его читателю приглашение к "тотальному воспоминанию", понимаемому как духовный акт воскрешения личности".
Так пишет Борис Аверин в своей работе "Гений тотального воспоминания". Продолжаем нашу беседу в доме Бориса Валентиновича под Петербургом.
А были ли у вас учителя или люди, которых вы позволяете себе назвать учителями, но которые вовсе не были при этом преподавателями школы, филфака или чего-то? Были у вас такие отчимы-учителя, на стороне, ходом коня кто-то учил вас в жизни чему-то?
Борис Аверин: Я помню несколько ярких высказываний людей, которые запомнил на всю жизнь. Самое начало первой перестройки, 1957 год. Тогда же главная идея была у Хрущева, что был великий Ленин, а Сталин – это культ личности. Я что-то подобное сказал одному замечательному человеку, и вдруг он произносит такой дикий текст: "Бросьте вы! Ленин - это политическая проститутка!" Я ошалел. Потом-то я понял, что у Ленина и Сталина разница небольшая, просто Ленин не успел развернуться. Хотя развернулся. То, что Бунин ваш злобный пишет в "Окаянных днях", как человек работал в учреждении, учреждение закрылось, он приходит к большевикам и говорит, что у него семья, дети, ему негде работать, у него нет зарплаты, а ему отвечают: вот вам два ордера на обыск, получайте, заходите, берите. Это – ЧК при возникновении. А потом уже были удостоверения, потом уже был пистолет, право расстреливать классово чуждых людей. Ведь что пишет (не к ночи будет помянут, не хочется фамилию произносить) в первом номере "Современных записок"? Не важно, как человек относился к советской власти, нам важно его социальное происхождение. Если социальное происхождение чуждое нам, он может быть расстрелян без суда и следствия. Так впрямую это не говорилось, потому что потом отменили смертную казнь. Большевики отменили, чекисты. Но там была такая поправочка – "но не в районе боевых действий". Оказалось, что вся Россия – это район боевых действий, поэтому можно было спокойно расстреливать без суда и следствия. Вы даже плохо себе представляете, насколько все были напуганы. Когда в газетах "Правда" и "Известия" регулярно пишутся списки расстрелянных. И в чем они виноваты? А если возьмете знаменитые тома "Мартиролога", это уже 1937 год, кто был на первом месте, кого чаще всего арестовывали и расстреливали в 1937 году? Крестьяне. Потому что еще оставались те крестьяне, которые умели и любили работать. И их быстренько скручивали. На втором месте – рабочие, которые умели работать, которые хорошо получали. У них семья – жена и пятеро детей. Такой был знаменитый член Верховного совета, он единственный умел тачать эти огромные валы для пароходов, он был богат. Вот их сажали. Потом шли священники – один миллион священнослужителей был, а к 1937 году осталось несколько тысяч. Остальные были за ненадобностью убраны. И потом жалкий процент интеллигенции. А мы все: ой, Бабеля арестовали! А интеллигенция довольно быстро смирилась.
Иван Толстой: И все-таки вернемся к ходу коня. Кто еще ваш учитель, если не напрямую, не преподаватель, а учитель жизни, учитель стойкости, учитель иронии, чувства юмора?
Борис Аверин: Моя соседка. Она свято верила в постановления партии и правительства. У нее глаза горели. Она приходит: "Ты считал Постановление 22-го съезда? Не читал? Ты представляешь, как мы будем жить через четыре года? Все вырастет!" У нее глаза сияли. Я смотрел: боже, неужели такое может быть?! Ты посмотри, в магазине ничего нет. Гнилая картошка, за мясом надо стоять два часа. Какое процветание? Это отрицательный пример, но он почему-то запомнился. Я понимал, что так не надо. Такая святая вера – она плохая, что-то здесь не так.
А рядом жила другая бабушка, которая тоже много повлияла. Она работала в колхозе, потом ей удалось бежать из колхоза, она приехала в Ленинград и устроилась на "Скороход", она огромным шестом резину размешивала. Представьте себе огромный резервуар, где кипит резина, а вы размешиваете. Не дамское это дело и невероятно вредное. Она мне говорит: "Какое счастье было! Мне дали комнату в общежитии на пять человек, каждые две недели зарплата, в магазинах есть все" (это для нее "все", потому что в деревне ничего не было). Голубушка, до чего надо довести человека, чтобы он работал на фабрике "Скороход", жил в общежитии на пять человек в комнате и радовался, что ему каждые две недели дают зарплату. А она восхищалась: как хорошо вы живете! И, конечно, очень сильное влияние села, крестьян. Был у меня такой учитель в деревне Филисово на Волге, Федор Федорович. Ко мне приходит сосед по дому и предлагает большой таз крыжовника за пятьдесят копеек. А через три дня он мне приносит большой тазик малины. Сколько? Это подарок. Федор Федорович, который был нравственным лидером в этой деревне, когда узнал, что этому дураку из Ленинграда тот всучил за пятьдесят копеек крыжовник, сказал: "Набери нормальных ягод и подари. Чтобы этого больше никогда не было, чтобы ты не надувал этих дурных горожан". И он был нравственный центр. Я с ним часто беседовал, он был человек с хорошим русским языком, очень просвещенный. В экспедициях я встречался с подобными людьми. Ему поставили диагноз рак, так он десять лет жил после этого. Все умирали через полгода. А это потому, что нравственность его спасала. И все понимали, что Федора Федоровича надо слушаться, потому что не обманет. Это одна из многих встреч, которые сильно повлияли.
А до Федора Федоровича, когда я был в экспедиции, у меня было несколько бабушек. Вот это – наука. Бабушка была Любава, я у нее жил в деревне, собирал фольклор. У нее было шесть или семь дочерей, зятья приезжали на воскресенье и выпивали очень хорошо. А мне же интересно побеседовать. Но не тут-то было. Они разливают стакан водки, потом второй. И меня уже нет, я уже сплю. А они такие добродушные. Я говорю: "А у нас – иначе. У нас, где я живу, там разливает-то гость, а не хозяин. Я должен разливать, а не вы". Поэтому я им – по стакану, а себе шестьдесят грамм. Так вот эта Любава будит меня как-то и говорит: "Я в магазине-то купила… Яйца называются…. Варю, варю и никакого навара!" В первый раз на село привезли яйца. Там нет куриц.
И вот я уезжаю, мне надо ей что-то подарить, а в магазине нет ничего. Там была хорошая тресковая печень в банках, но они ее не ели. Но тут она ко мне обращается с просьбой. Поедешь в Архангельское (она деревню знает Архангельское, а не город), так вот на Соловках поставь свечечку от меня. Я понимаю, что бабушке Любаве – что Архангельское, что Соловки, в общем, это где-то вместе. А Соловки это очень далеко, это надо целую ночь на пароходе плыть, поэтому я решаю, что я поставлю в Архангельске свечечку. Но что-то меня смущает, и тем не менее, сажусь на пароход, еду на Соловки и в этом соборе (его уже очистили от этого всего) ставлю свечечку. И вот что интересно. Когда я поставил свечку, то я почувствовал, что это правильно, но смысла-то никакого нет. Добро должно быть абсолютно бескорыстным.
Иван Толстой: Как таз с малиной.
Борис Аверин: Да, совершенно не должен вмешиваться разум. Сказала бабушка, вот и давай. И я почувствовал облегчение, что я поступил правильно. Вот бабушка меня таким образом воспитала.
Иван Толстой: Борис Валентинович, давайте теперь перевернем мой вопрос. Вот теперь учитель – вы, и к вам приходит юное создание прелестное и говорит: Борис Валентинович, научи как быть, кем быть, что делать?
Борис Аверин: Вы исключительно молодой и наивный человек. Не задают этот вопрос современные студенты.
Иван Толстой: А мы представим себе.
Борис Аверин: Я сейчас читаю для второго и четвертого курса. Второй курс – это очень маленькие дети. Я спрашиваю: "Кто из вас читал Евангелие?". Никто. И когда я начинаю рассказывать, что "Война и мир", как и вся русская литература, построена на религиозной тематике, а "Война и мир" это путь к Богу Пьера, Андрея, Натальи, Марьи и так далее, и у каждого свой, – неинтересно. И вообще литература неинтересна. Я пытаюсь понять, в чем дело. Это – современность. Современность заключается в том, что всякая наука должна иметь применение. Какое применение может иметь литература? Никакого.
Иван Толстой: Ну, что понимать под словом "применение".
Борис Аверин: Вот я окончил, и что я буду делать с "Войной и миром"? Раньше было много музеев, Институт русской литературы, издательства, радио, телевидение, и устраивать детей филологов было нетрудно. Я практически всех устраивал на какую-то работу. А сейчас я никого не могу устроить. Два года назад в Петербурге была такая хорошая радиостанция, где я регулярно делал передачи про современную литературу, потому что я читаю всю современную литературу. Теперь нет такого, теперь, чтобы рецензию опубликовать, я отнесу ее в "Звезду", через полгода опубликуют. Так вот, чтобы кто-нибудь задал вопрос, как надо жить и что нужно делать, – нет таких вопросов.
На западном отделении у меня был такой курс, они постоянно задавали мне вопросы про произведения. Я лекцию практически не читал, все время отвечал на вопросы. Сейчас я говорю: "Вопросы есть?" – "Вопросов нет". Никто из студентов никаких вопросов не задаёт.
Иван Толстой: Тем не менее, вы были бы не вы, если бы вы не вкладывали далекоидущие, долгозреющие идеи, если бы вы зерно не заранивали в землю в своих лекциях. Чему вы учите на самом деле? Вроде бы литературе, а на самом деле…
Борис Аверин: На самом деле, если брать терминологию, то это элементарное толстовство, без крайности. Я не пойду с нищими в ночлежку, но тем не менее, делать карьеру, зарабатывать много денег, завидовать ближнему, осуждать ближнего – ни в коем случае. Не суди. Подставь другую щеку.
Когда я начал осваивать толстовство, я помню яркий эпизод. Шел дождик, я подхожу к магазину, мне нужно купить пачку "Родопи". Магазин пустой, беседует кассирша с продавщицей. Я говорю: "Будьте добры пачку "Родопи". А они беседуют про мальчиков. Я послушал, а потом говорю: "Простите великодушно, можно мне пачку "Родопи"?". Ответ – молчание. Я снова повторяю. А мне говорят: "Вот ты шары-то налил, а теперь требуешь чего-то". Тут бы мне надо ответить, что, мол, повежливее нельзя? Я говорю: "Девушка, вы меня обижаете". Это шел дождь, и у меня такая была прическа на лоб. Вы знаете, она покраснела. Если бы я ответил ей как надо – мать-перемать. Нет, не обижайся, прости. Но у нее действительно интересный разговор.
И вот это и есть толстовство. Встань на точку зрения другого человека, не осуждай, даже если он явно не прав, потому что мы все неправы друг перед другом. И не осуди.
Перепеку я недавно всю наизусть выучил Толстого с императорами. Александру III он говорит: понимаете, их надо простить. У вас есть два способа – или жестокость, или какие-то либеральные последствия. Ни то, ни другое не работает. Вот они убили, а вы скажите: вы виновны, вы страшно виновны, но мы вас прощаем и не казним. Казнили. Вот если бы послушались Толстого и Владимира Соловьева и сказали: вы страшно виноваты, но убивать людей нельзя. Тем более что вы начитались Гаршина, но Гаршин что говорит? Он вырвал цветок красный и прижал к груди. "Если ты поднимаешь знамя красное, то это знамя должно быть смочено твоей собственной кровью, но не чужой". Это я процитировал своего учителя, статья о Гаршине. Я процитировал, а редактор тома говорит, что это банальность, это вычеркните. И ссылку убрали. Я говорю: "Абрам Константинович, извините, вычеркнули ссылку". – "Да ну, ерунда, никто не заметит". Потому что убить Государя императора? Ну и что? Почитайте Горького, он пишет в "Городке Окурове", что пришло сведение, что убит Александр II, понять этого никак невозможно, а дальше – опять городские новости. Никакого впечатления на российскую действительность это действие не произвело. А если бы вы простили? Я думаю, так бы активно не стало развиваться. Надо было прервать эту жестокую последовательность, когда вместо того, что возлюбить ближнего, мы хотим менять социальный строй. Да, давайте, меняйте, только вы не хлебом единым, не получится у вас, равенства бытового не будет никогда.
Вот у вас ни одного седого волоса нет, а я – седой как лунь. Ну, неравенство. И во всем неравенство. А вы хотите мне бытовое равенство? Получится жуткая борьба и зависть, если мы будем добиваться бытового равенства. И чему Толстой учит? Говорят, что я отказываюсь от Бога, от Христа. Да наоборот. Когда я читал критику догматического богословия, я первые пять страниц читал с ужасом. Это страшное обвинение церкви в том, что они затемняют учение Христа. А потом я прочел воспоминания дочери. Он дает переписывать жене, жена переписала четыре страницы, потом в жутком возмущении врывается в кабинет и говорит: "Я этого переписывать не буду!" Страшно, правда, потому что он очень сильно ополчился на церковь. Я подхожу к священнику и говорю, что я вашу всю службу прослушал, я старославянский учил, но я половины не понял, о чем вы тут говорите, а ваши прихожане, которые не знают, они же вообще ничего не понимают, почему бы не перейти на русский? А он мне говорит: "Можно, но будет некрасиво". На старославянском красиво звучит. Конечно, гимназисты изучали старославянский, а сейчас его никто не знает. Ну, служба – красиво, хор, но в целом содержание не доходит никак. И это немножко обидно. Мне рассказывали, что в Москве в одной церкви ввели службу на русском языке. Очереди стояли километровые. Потом закрыли. Нельзя. Надо чтить язык и веру предков.
Иван Толстой: Красота и есть воздержание.
Борис Аверин: Вы-то понимаете. А вы учились на русском отделении?
Иван Толстой: На русском. И по старославянскому была твердая двойка.
Борис Аверин: А у кого диплом писали?
Иван Толстой: По старославянскому у меня была Татьяна Всеволодовна Рождественская.
Борис Аверин: Ну, она тогда маленькая была.
Иван Толстой: Но я таким старым уже учился, у меня вся жизнь прошла, я до этого в медицинском институте учился. Потом работал экскурсоводом в Пушкинских горах. А когда поступил на первый курс, преподавателем у меня была только что окончившая филфак моя одноклассница, и она все время была пунцовая, ей было так неудобно – сидел на первой парте большой, толстый я, а она мне преподавала. А я ее Люська и на "ты", и за косы дергал в школе.
Борис Аверин: У меня похожий был эпизод. Я, когда окончил, я сразу же после окончания начал преподавать. Ко мне приходит однокурсница, с которой я учился и сидел на одной парте. А она отстала, не успевала, ей трудно было учиться. Она говорит: "Поставь мне отметку". – "Конечно!". И пишу ту оценку, которую она заслуживает, – "удовл.". Она так оскорбилась! Больше со мной не разговаривала.
Иван Толстой: Это не по-толстовски!
Борис Аверин: Но я же ее не спрашивал. А вот недавний ответ, чтобы позабавить вас в конце нашей беседы. Девочка отвечает "Войну и мир", я говорю: "Скажите, пожалуйста, а в чем там дело?" – "Понимаете, там описывается война, а вместе с войной описывается и мир". – "Отличный ответ! А с кем была война?" Она говорит: "С турками".
Иван Толстой: А кто победил?
Борис Аверин: А черт его знает! У нас есть кафе, называется "Бородино". Я спросил официанта, что такое Бородино? "Откуда я знаю?" Последняя байка была два года назад на факультете журналистики. "Анну Каренину" отвечает студент. Я говорю: "А чем заканчивается роман?" – "Она бросается под поезд". – "Правильно! А дальше что?" Он задумывается и говорит: "Но не умерла".