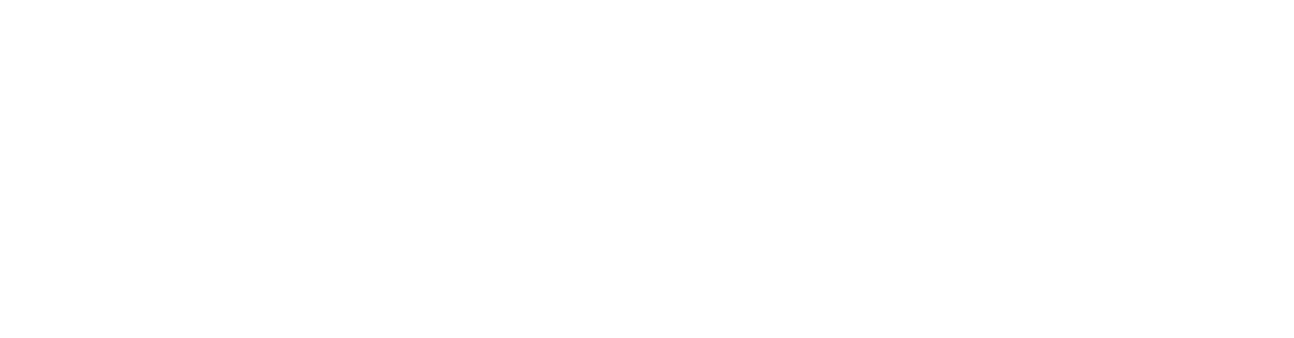Воспоминания
Валерий Дмитриев
Азбука
Всякий, кого угораздило родиться в преддверии какого-нибудь праздника — Нового года, 8 марта или 9 мая — знает эту раздвоенность: настроение предпраздничное, но не про тебя. Мне от папы с мамой достался Новый год, так и встречаю день рождения за два дня до Нового года: елка, игрушки и я вместо деда Мороза. По традиции в этот день я хожу в книжный магазин и делаю себе подарок «новогодний ко дню рождения», во-первых, смену вех лучше переживать на людях, во-вторых, с подарком праздник значительно веселее, это знает всякий, кто встречал день рождения в одиночестве, раз с подарком, значит уже не один.
29 декабря 2014 года появился особенный повод идти в книжный магазин — утром пришла мысль, и не какая-нибудь абстрактная, которых за день приходит множество, так что можно легко и недолго подумать и безболезненно из головы выкинуть, нет, мысль пришла конкретная и по первому впечатлению любопытная — сделать солнечные часы. Пришла и осталась, и не уходит никуда, сидит себе в голове и не кашляет. Откуда пришла — неизвестно, «Значит ОТТУДА» — успокоил я себя и начал понимать, что часы делать придется, хотя, как — пришедшая мысль не сообщила.
За подарком я отправился во Дворец культуры имени товарища Надежды Константиновны Крупской — бывший храм пролетарского просвещения, а ныне известный книжный развал Петербурга, где всегда можно найти нужное и не очень, но совсем недорого.
На входной двери дворца белело объявление, написанное от руки на листке бумаги в клеточку: «Ярмарка желаний. 3-ий этаж, налево. Вход свободный». Текст показался мне забавным, и я пошел по указанному пути. В центре не большого, но ярко освещенного зала, темнела пустовавшая стойка «Справки», по периметру зала располагалось полтора десятка одинаковых дверей без надписей.
Почти у всех дверей стояли небольшие очереди, человек по пять-семь, не более. И только три двери выделялись — у двух очереди были длинные, человек по сорок, у третьей вообще никого не было.
Первая длинная очередь была преимущественно женской и состояла в основном из дам, аккуратно причесанных и ярко одетых, с удивительным сочетанием в глазах тоски и надежды. Шумных разговоров в очереди не было, только тихие задушевные беседы о шансах и невероятных возможностях. «За счастьем, наверное, пришли — подумал я — не за барахлом же».
В длинной очереди у второй двери стояли почти сплошь мужчины, в основном плохо причесанные в давно не глаженных одеждах, еще не близких мусорному контейнеру, но уже далеких от платяного шкафа. Молчаливые взгляды их выражали угрюмую озабоченность, но пришли они не за водкой — так мне показалось — наверное, за деньгами, ищут, где добыть.
Счастье у меня в жизни уже было и всё кончилось, надеяться на второе пришествие оснований не имелось. Деньги в прошлом также были, однажды пришедшая шальная сумма была просажена быстро и без удовольствия, в попытках найти замену ушедшему счастью. Так что ни в одну из двух длинных очередей становиться не было никакого резона — бессмысленно и бесполезно.
Третья дверь была не просто безлюдна, но начисто лишена даже признаков когда-либо существовавшей очереди. «Мне сюда. Выбор предопределен, совпадения не случайны» — с этой мыслью я постучал в дверь, у которой никого не было.
Дождавшись ответа — «Входите, коллега» — я сделал шаг вперед и оказался в полутемной комнате, где горела большая свеча, а в кресле сидел немолодой седоволосый человек, с большими ушами и добрым взглядом. На столе лежала незаконченная рукопись и открытая книга Владимира Набокова, одну из стен украшали крылья из настоящих ангельских перьев, по внешнему виду совсем новые, неиспользованные ни разу.
«Не удивляйтесь, юноша, — начал беседу ангел — сюда редко кто заходит, план я не выполняю, премию мне не платят, потому подрабатываю профессором в университете, лекции читаю по русской литературе. Фамилия моя Аверин, в быту зовут Борис Валентинович. А Вы, стало быть, хотите солнечные часы делать. И зачем оно Вам?» Ответ мой был не умным, но пафосным — «Не сделаю этого я — не сделает никто». «Это, коллега, мания, я бы даже сказал глупость, болезнь неадекватности — отреагировал профессор — Вы мне еще про божественное провидение расскажите, я очень про божественное люблю слушать.»
«Шутите — обиделся я и повторил — вот уйду, кто Вам солнечные часы сделает?» «Да — согласился профессор — это аргумент, это сильно. Вы, коллега, „Войну и мир“, конечно, не читали, стало быть, про жизнь и смерть мало что понимаете, не говоря уж про солнечные часы». Попытка сопротивления моя была неуклюжей, но искренней — «Про войну и мир я читал». «Не читал, а листал, причем за день до школьного сочинения, и не спорьте — мне семьдесят два года, я вашего брата хорошо знаю» — остановил меня профессор. «Нет у меня брата, Ваше благородие, только две сестры: старшая и младшая» — возразил я.
«Дурака решили валять, а зря — отреагировал профессор — но присутствия духа не теряете, острите, это хорошо. Вина сухого красного не принесли — это плохо, какой серьезный разговор без вина — одна болтовня, придется сходить, тут недалеко. Денег я Вам дам, у меня их немеряно, в каждом кармане не меньше ста рублей. Беседа у нас долгая, Вы, конечно, голодный, я выпью для аппетита вина и угощу Вас здоровой пищей, будете есть и слушать, это полезно. Так что ступайте. Выходите через вторую дверь, чтобы не смущать окружающих».
Поход за вином позволил мне несколько осмыслить сказанное ангелом. Первое — сразу не выгнали и никуда не послали — ни в другой небесный департамент, ни к черту. Значит, попал куда нужно. Второе — дадут поесть и обещают беседу. Поесть и побеседовать с ангелом, да еще в ранге профессора, — редкое везение. Третье соображение я додумать не успел — подошла очередь в кассу.
«Резвый Вы молодой человек — такими словами встретил меня профессор, затем нарезал хлеб, рыбу, достал масло, открыл бутылку вина, налил себе половину бокала и продолжил — Ешьте, коллега, рыба вкусная, хлеб свежий, масло настоящее, не пластмассовое, как Вы едите. Такого нигде не найдете, только я места и знаю. Ешьте и слушайте. Солнечные часы — предмет старинный, когда появились — кроме меня никто не знает, Вам пока не скажу — рано. Полезность в обычной жизни призрачная, ночью не работают. Простота изготовления — кажущаяся, расчеты сложные».
Профессор замолчал, выпил вина и вкусил рыбы, паузы оказалось достаточно, чтобы мне удалось вставить в разговор свои ответные три копейки — «Старинность предмета, профессор, меня не пугает, я и сам не вчера родился. Ночью же надо спать или любить женщину, а не смотреть на часы. Расчетов сложных не боюсь, знаем, плавали».
Беседа продолжалась, и через два часа профессор подвел итог — «Делайте свои солнечные хронометры, пробуйте, желаю Вам удачи. Получится — хорошо, не получится — посадите сад, будете выращивать фрукты и ягоды, заведёте собаку, будете её любить, гулять и кормить, а она — служить Вам верой и правдой, большинству людей обязательно нужно кого-нибудь любить, такая в них природа заложена».
Получив ангельское напутствие и книжку «О Земле и Светилах Небесных с прибавлением статей о летосчислении, о пасхалии и о том, как устроить солнечные часы» 1888 года издания, я принялся за исполнение намерения. Через два с половиной месяца часы из нержавеющей стали и мрамора были готовы. Проверка показала, что они работают и время показывают правильно, это вызвало у меня настоящий детский восторг — кто испытал, тот понимает. В часах были переплетены три первые буквы русского алфавита: А, Б и В, назвал я их «Азбука» и пошел дарить ангелу-профессору.
Ярмарка желаний к тому времени оказалась закрытой для ремонта помещений и устройства салона сотовой связи. Знакомая продавщица детских сказок c неустроенной женской судьбой и грустными глазами, знавшая профессора, дала мне его адрес, нарисовала схему и объяснила, как добраться. «Единственное, что помню плохо — сказала она — как улица называется». Подумала немного и добавила — «Скорее всего Пролетарская, точно — Пролетарская. Впрочем, какая ещё может быть улица у профессора русской литературы.»
«Я уж Вас, коллега, заждался, думать плохо мне не хотелось, первое впечатление Вы оставили хорошее — говорили мало. Время шло, а Вас всё нет и нет, я уже начал немного волноваться — встретил меня профессор и добавил — коли пришли, пойдем на балкон, там Вы мне всё и расскажете. Часы, я вижу, сделали, сейчас мы их и проверим. Называются они, скорее всего „Азбука“, это Вы угадали, меня в школе так называли».
При установке часов профессор подошел ко мне и попытался начать монолог, задав вопрос — «Не нужна ли Вам, коллега, помощь, в крайнем случае, совет?» «Нет, — ответил я — спасибо, теперь я сам». Для поддержания же монолога поинтересовался у профессора — делал ли тот в своей жизни добрые дела, в крайнем случае чудеса, но только от совершенно чистого сердца, бескорыстно.
«Признаюсь, — отвечал профессор — один раз за всю жизнь было, расскажу, если угодно. Сидели мы с приятелем на пригорке среди весеннего благолепия и выпивали, беседовали, конечно, при этом на разные возвышенные темы, но от действительности не отрывались. Потому заметили идущую по дороге пару — женщину и мужчину. Женщина шла гордой и уверенной походкой знаменосца-победителя, за ней плелся явно побежденный мужчина с видом невиноватого мученика. Вид его настолько не соответствовал радостному моменту весеннего бытия, что сердце мое тут же наполнилось состраданием и сочувствием, я налил полстакана водки и стал спускаться к дороге, дабы оказать человеку, попавшему в затруднительное положение посильную, но конкретную помощь. Реакция мученика была мгновенной и правильной, водку он выпил быстро и с удовольствием, в ответ та вдохнула в его измученную душу новую жизнь, и он продолжил путь, на Голгофу или в другое место, сказать не могу — не знаю.»
«Зам-мечательно — заметил я — спасенная душа, это много, этим можно не просто гордиться, но гордиться долго и обстоятельно. Завидую Вам, профессор, по-хорошему».
Со словами — «Вы продолжайте трудиться, а я пойду, приготовлю еду, скоро придет с работы Машенька, она голодная, её накормить надо. Да и мы поедим, я сам это дело не очень люблю, но, ведь Вы понимаете, надо иногда» — профессор ушел вниз.
Через сорок минут по окончании установки он проверил часы и не просто, а по двум параметрам: ходят/не ходят и правильно/не правильно. Счет оказался 2:0 в пользу солнца, с тех и до сих пор так часы на балконе профессора и ходят. Конечно, когда светит солнце. Остальное время стоят и этот самый балкон украшают.
После установки часов мы ели бутерброды с колбасой и с рыбой, запивали вином и долго беседовали, потом пели «Не для меня придет весна…», путаясь в словах и интонациях, не смущаясь несовпадений и радуясь редкому ощущению полета — одному из немногих состояний, продлевающих человеческую жизнь. Странный призрак приближающегося сиротства, до которого оставалось ещё целых четыре года, взглянул на меня с книжной полки и еле заметно подмигнул — «Не боись пока, не завтра».
В последовавшие годы я сделал довольно много солнечных часов, познакомился при этом с разными людьми — умными и не очень, честными и откровенно жуликоватыми, не совсем бедными и не слишком богатыми, не лишенными злости и не чуждыми доброжелательности. Но ангелов я больше не встречал. Нигде и, к сожалению, никогда.
29 декабря 2014 года появился особенный повод идти в книжный магазин — утром пришла мысль, и не какая-нибудь абстрактная, которых за день приходит множество, так что можно легко и недолго подумать и безболезненно из головы выкинуть, нет, мысль пришла конкретная и по первому впечатлению любопытная — сделать солнечные часы. Пришла и осталась, и не уходит никуда, сидит себе в голове и не кашляет. Откуда пришла — неизвестно, «Значит ОТТУДА» — успокоил я себя и начал понимать, что часы делать придется, хотя, как — пришедшая мысль не сообщила.
За подарком я отправился во Дворец культуры имени товарища Надежды Константиновны Крупской — бывший храм пролетарского просвещения, а ныне известный книжный развал Петербурга, где всегда можно найти нужное и не очень, но совсем недорого.
На входной двери дворца белело объявление, написанное от руки на листке бумаги в клеточку: «Ярмарка желаний. 3-ий этаж, налево. Вход свободный». Текст показался мне забавным, и я пошел по указанному пути. В центре не большого, но ярко освещенного зала, темнела пустовавшая стойка «Справки», по периметру зала располагалось полтора десятка одинаковых дверей без надписей.
Почти у всех дверей стояли небольшие очереди, человек по пять-семь, не более. И только три двери выделялись — у двух очереди были длинные, человек по сорок, у третьей вообще никого не было.
Первая длинная очередь была преимущественно женской и состояла в основном из дам, аккуратно причесанных и ярко одетых, с удивительным сочетанием в глазах тоски и надежды. Шумных разговоров в очереди не было, только тихие задушевные беседы о шансах и невероятных возможностях. «За счастьем, наверное, пришли — подумал я — не за барахлом же».
В длинной очереди у второй двери стояли почти сплошь мужчины, в основном плохо причесанные в давно не глаженных одеждах, еще не близких мусорному контейнеру, но уже далеких от платяного шкафа. Молчаливые взгляды их выражали угрюмую озабоченность, но пришли они не за водкой — так мне показалось — наверное, за деньгами, ищут, где добыть.
Счастье у меня в жизни уже было и всё кончилось, надеяться на второе пришествие оснований не имелось. Деньги в прошлом также были, однажды пришедшая шальная сумма была просажена быстро и без удовольствия, в попытках найти замену ушедшему счастью. Так что ни в одну из двух длинных очередей становиться не было никакого резона — бессмысленно и бесполезно.
Третья дверь была не просто безлюдна, но начисто лишена даже признаков когда-либо существовавшей очереди. «Мне сюда. Выбор предопределен, совпадения не случайны» — с этой мыслью я постучал в дверь, у которой никого не было.
Дождавшись ответа — «Входите, коллега» — я сделал шаг вперед и оказался в полутемной комнате, где горела большая свеча, а в кресле сидел немолодой седоволосый человек, с большими ушами и добрым взглядом. На столе лежала незаконченная рукопись и открытая книга Владимира Набокова, одну из стен украшали крылья из настоящих ангельских перьев, по внешнему виду совсем новые, неиспользованные ни разу.
«Не удивляйтесь, юноша, — начал беседу ангел — сюда редко кто заходит, план я не выполняю, премию мне не платят, потому подрабатываю профессором в университете, лекции читаю по русской литературе. Фамилия моя Аверин, в быту зовут Борис Валентинович. А Вы, стало быть, хотите солнечные часы делать. И зачем оно Вам?» Ответ мой был не умным, но пафосным — «Не сделаю этого я — не сделает никто». «Это, коллега, мания, я бы даже сказал глупость, болезнь неадекватности — отреагировал профессор — Вы мне еще про божественное провидение расскажите, я очень про божественное люблю слушать.»
«Шутите — обиделся я и повторил — вот уйду, кто Вам солнечные часы сделает?» «Да — согласился профессор — это аргумент, это сильно. Вы, коллега, „Войну и мир“, конечно, не читали, стало быть, про жизнь и смерть мало что понимаете, не говоря уж про солнечные часы». Попытка сопротивления моя была неуклюжей, но искренней — «Про войну и мир я читал». «Не читал, а листал, причем за день до школьного сочинения, и не спорьте — мне семьдесят два года, я вашего брата хорошо знаю» — остановил меня профессор. «Нет у меня брата, Ваше благородие, только две сестры: старшая и младшая» — возразил я.
«Дурака решили валять, а зря — отреагировал профессор — но присутствия духа не теряете, острите, это хорошо. Вина сухого красного не принесли — это плохо, какой серьезный разговор без вина — одна болтовня, придется сходить, тут недалеко. Денег я Вам дам, у меня их немеряно, в каждом кармане не меньше ста рублей. Беседа у нас долгая, Вы, конечно, голодный, я выпью для аппетита вина и угощу Вас здоровой пищей, будете есть и слушать, это полезно. Так что ступайте. Выходите через вторую дверь, чтобы не смущать окружающих».
Поход за вином позволил мне несколько осмыслить сказанное ангелом. Первое — сразу не выгнали и никуда не послали — ни в другой небесный департамент, ни к черту. Значит, попал куда нужно. Второе — дадут поесть и обещают беседу. Поесть и побеседовать с ангелом, да еще в ранге профессора, — редкое везение. Третье соображение я додумать не успел — подошла очередь в кассу.
«Резвый Вы молодой человек — такими словами встретил меня профессор, затем нарезал хлеб, рыбу, достал масло, открыл бутылку вина, налил себе половину бокала и продолжил — Ешьте, коллега, рыба вкусная, хлеб свежий, масло настоящее, не пластмассовое, как Вы едите. Такого нигде не найдете, только я места и знаю. Ешьте и слушайте. Солнечные часы — предмет старинный, когда появились — кроме меня никто не знает, Вам пока не скажу — рано. Полезность в обычной жизни призрачная, ночью не работают. Простота изготовления — кажущаяся, расчеты сложные».
Профессор замолчал, выпил вина и вкусил рыбы, паузы оказалось достаточно, чтобы мне удалось вставить в разговор свои ответные три копейки — «Старинность предмета, профессор, меня не пугает, я и сам не вчера родился. Ночью же надо спать или любить женщину, а не смотреть на часы. Расчетов сложных не боюсь, знаем, плавали».
Беседа продолжалась, и через два часа профессор подвел итог — «Делайте свои солнечные хронометры, пробуйте, желаю Вам удачи. Получится — хорошо, не получится — посадите сад, будете выращивать фрукты и ягоды, заведёте собаку, будете её любить, гулять и кормить, а она — служить Вам верой и правдой, большинству людей обязательно нужно кого-нибудь любить, такая в них природа заложена».
Получив ангельское напутствие и книжку «О Земле и Светилах Небесных с прибавлением статей о летосчислении, о пасхалии и о том, как устроить солнечные часы» 1888 года издания, я принялся за исполнение намерения. Через два с половиной месяца часы из нержавеющей стали и мрамора были готовы. Проверка показала, что они работают и время показывают правильно, это вызвало у меня настоящий детский восторг — кто испытал, тот понимает. В часах были переплетены три первые буквы русского алфавита: А, Б и В, назвал я их «Азбука» и пошел дарить ангелу-профессору.
Ярмарка желаний к тому времени оказалась закрытой для ремонта помещений и устройства салона сотовой связи. Знакомая продавщица детских сказок c неустроенной женской судьбой и грустными глазами, знавшая профессора, дала мне его адрес, нарисовала схему и объяснила, как добраться. «Единственное, что помню плохо — сказала она — как улица называется». Подумала немного и добавила — «Скорее всего Пролетарская, точно — Пролетарская. Впрочем, какая ещё может быть улица у профессора русской литературы.»
«Я уж Вас, коллега, заждался, думать плохо мне не хотелось, первое впечатление Вы оставили хорошее — говорили мало. Время шло, а Вас всё нет и нет, я уже начал немного волноваться — встретил меня профессор и добавил — коли пришли, пойдем на балкон, там Вы мне всё и расскажете. Часы, я вижу, сделали, сейчас мы их и проверим. Называются они, скорее всего „Азбука“, это Вы угадали, меня в школе так называли».
При установке часов профессор подошел ко мне и попытался начать монолог, задав вопрос — «Не нужна ли Вам, коллега, помощь, в крайнем случае, совет?» «Нет, — ответил я — спасибо, теперь я сам». Для поддержания же монолога поинтересовался у профессора — делал ли тот в своей жизни добрые дела, в крайнем случае чудеса, но только от совершенно чистого сердца, бескорыстно.
«Признаюсь, — отвечал профессор — один раз за всю жизнь было, расскажу, если угодно. Сидели мы с приятелем на пригорке среди весеннего благолепия и выпивали, беседовали, конечно, при этом на разные возвышенные темы, но от действительности не отрывались. Потому заметили идущую по дороге пару — женщину и мужчину. Женщина шла гордой и уверенной походкой знаменосца-победителя, за ней плелся явно побежденный мужчина с видом невиноватого мученика. Вид его настолько не соответствовал радостному моменту весеннего бытия, что сердце мое тут же наполнилось состраданием и сочувствием, я налил полстакана водки и стал спускаться к дороге, дабы оказать человеку, попавшему в затруднительное положение посильную, но конкретную помощь. Реакция мученика была мгновенной и правильной, водку он выпил быстро и с удовольствием, в ответ та вдохнула в его измученную душу новую жизнь, и он продолжил путь, на Голгофу или в другое место, сказать не могу — не знаю.»
«Зам-мечательно — заметил я — спасенная душа, это много, этим можно не просто гордиться, но гордиться долго и обстоятельно. Завидую Вам, профессор, по-хорошему».
Со словами — «Вы продолжайте трудиться, а я пойду, приготовлю еду, скоро придет с работы Машенька, она голодная, её накормить надо. Да и мы поедим, я сам это дело не очень люблю, но, ведь Вы понимаете, надо иногда» — профессор ушел вниз.
Через сорок минут по окончании установки он проверил часы и не просто, а по двум параметрам: ходят/не ходят и правильно/не правильно. Счет оказался 2:0 в пользу солнца, с тех и до сих пор так часы на балконе профессора и ходят. Конечно, когда светит солнце. Остальное время стоят и этот самый балкон украшают.
После установки часов мы ели бутерброды с колбасой и с рыбой, запивали вином и долго беседовали, потом пели «Не для меня придет весна…», путаясь в словах и интонациях, не смущаясь несовпадений и радуясь редкому ощущению полета — одному из немногих состояний, продлевающих человеческую жизнь. Странный призрак приближающегося сиротства, до которого оставалось ещё целых четыре года, взглянул на меня с книжной полки и еле заметно подмигнул — «Не боись пока, не завтра».
В последовавшие годы я сделал довольно много солнечных часов, познакомился при этом с разными людьми — умными и не очень, честными и откровенно жуликоватыми, не совсем бедными и не слишком богатыми, не лишенными злости и не чуждыми доброжелательности. Но ангелов я больше не встречал. Нигде и, к сожалению, никогда.
Надежда Дождикова
Б. В. Аверин в начале 1980-х
Когда-то, в начале 1980-х гг., состоялось знаменательное событие как в жизни русского отделения филологического факультета ЛГУ, так и в моей студенческой жизни. Борис Валентинович Аверин начал вести семинар по истории русского символизма, а затем и читать параллельный спецкурс. Семинар вскоре фактически превратился в блоковский, а спецкурс стал знаменитым. Его посещали не только филологи-русисты, но и самые разные, часто и совсем не филологические люди. Нас привлекали не только исходный материал — творчество А. Блока и русский символизм, хотя именно тогда, в связи со столетним юбилеем А. Блока, происходил очередной взлет в изучении этих тем, — но и те широкие культурные контексты, к которым обращался Борис Валентинович. Это были полеты в сопредельные поэзии области гностических учений, русской религиозной философии, европейской романтической философии, в которых интерес к метафизике часто преобладал над проблемами историко-литературными. Эти темы возбуждали острый интерес, так как в то время они были нам мало известны или неизвестны вовсе. Но более всего поражали не сами по себе эрудиция, интеллектуальная любознательность Бориса Валентиновича, а то, как естественно жил он в этих «мирах иных». Ему было присуще органическое существование в культурных пространствах, умение их сопрягать, видеть, как неожиданно отражаются перипетии «далековатого», казалось бы, культурного сюжета в литературе почти современной и, вроде бы, хорошо знакомой. Так, с захватывающим интересом слушали мы о том, как духовные странствия Софии-Ахамот, пройдя через творчество Вл. Соловьева, отразились в поэзии Блока. Это был своеобразный символизм «в действии», практикум символистского метода видения культурного материала.
Уже тогда сложилась «фирменная» стилистика Бориса Валентиновича — «понимающее» изложение, когда сам процесс рассказывания материала становился как бы и его одновременным постижением, вспышкой смысла, удивлявшей и самого говорящего, и его слушателей. В то время (начало и середина 1980-х гг.) Борис Валентинович почти еще ничего не написал на основе своего спецкурса, что, между прочим, удивляло З. Г. Минц, которая высоко оценила его именно как блоковеда (в частном разговоре). Впоследствии все же появились некоторые работы, в частности, «Жизненная драма Владимира Соловьева» (начало 1990-х гг.), отсылающая, в свою очередь, к названию одной из статей самого философа. Тема Вл. Соловьева в лекциях Бориса Валентиновича о Блоке, о русском символизме занимала важное место и представлялась одной из наиболее внутренне близких ему. Да и в облике самого Бориса Валентиновича сквозили черты блоковско-соловьевские. Те, например, которые сам он с сочувствием приводит из воспоминаний Л. М. Лопатина о Соловьеве: «Беспечность, доходящая до безалаберности в устройстве своих личных дел, и — трогательная заботливость о чужих делах, не только готовность, но и тонкое практическое умение помочь в чужой нужде». И в то же время вспоминается блоковская (со ссылкой на А. Белого) мысль о том, что Соловьев чувствовал недостаточность своей литературно-философской работы и ощущал внутреннюю потребность «ходить перед людьми». Такая внутренняя потребность была и у Бориса Валентиновича, который испытывал неподдельный интерес к людям и всегда стремился вовлечь в поле культурной рефлексии как можно больше людей.
Впоследствии в ученой и преподавательской практике Бориса Валентиновича появятся новые темы и интересы: Набоков, Мариенгоф, Алданов и др. Борис Валентинович станет знаменит и как культуртрегер, организатор Книжного клуба на Литейном, автор и участник телевизионных программ и т. д. Но как культурный герой времени, личность, уже отмеченная печатью легендарности и незаурядного мифотворческого потенциала, Борис Валентинович, как мне кажется, начался с того блоковского семинара и спецкурса начала 1980-х гг., которые стали для их участников и слушателей большой «нечаянной радостью» и уникальным опытом общения с очень умным и добрым человеком.
Уже тогда сложилась «фирменная» стилистика Бориса Валентиновича — «понимающее» изложение, когда сам процесс рассказывания материала становился как бы и его одновременным постижением, вспышкой смысла, удивлявшей и самого говорящего, и его слушателей. В то время (начало и середина 1980-х гг.) Борис Валентинович почти еще ничего не написал на основе своего спецкурса, что, между прочим, удивляло З. Г. Минц, которая высоко оценила его именно как блоковеда (в частном разговоре). Впоследствии все же появились некоторые работы, в частности, «Жизненная драма Владимира Соловьева» (начало 1990-х гг.), отсылающая, в свою очередь, к названию одной из статей самого философа. Тема Вл. Соловьева в лекциях Бориса Валентиновича о Блоке, о русском символизме занимала важное место и представлялась одной из наиболее внутренне близких ему. Да и в облике самого Бориса Валентиновича сквозили черты блоковско-соловьевские. Те, например, которые сам он с сочувствием приводит из воспоминаний Л. М. Лопатина о Соловьеве: «Беспечность, доходящая до безалаберности в устройстве своих личных дел, и — трогательная заботливость о чужих делах, не только готовность, но и тонкое практическое умение помочь в чужой нужде». И в то же время вспоминается блоковская (со ссылкой на А. Белого) мысль о том, что Соловьев чувствовал недостаточность своей литературно-философской работы и ощущал внутреннюю потребность «ходить перед людьми». Такая внутренняя потребность была и у Бориса Валентиновича, который испытывал неподдельный интерес к людям и всегда стремился вовлечь в поле культурной рефлексии как можно больше людей.
Впоследствии в ученой и преподавательской практике Бориса Валентиновича появятся новые темы и интересы: Набоков, Мариенгоф, Алданов и др. Борис Валентинович станет знаменит и как культуртрегер, организатор Книжного клуба на Литейном, автор и участник телевизионных программ и т. д. Но как культурный герой времени, личность, уже отмеченная печатью легендарности и незаурядного мифотворческого потенциала, Борис Валентинович, как мне кажется, начался с того блоковского семинара и спецкурса начала 1980-х гг., которые стали для их участников и слушателей большой «нечаянной радостью» и уникальным опытом общения с очень умным и добрым человеком.
Сергей Носов
Солнце, облака
Оказывается, в минувшем декабре в Петербурге было всего два с половиной солнечных часа. Так сообщил главный синоптик города. Два с половиной часа в течение четырех дней светило солнце. Но даже в те благословенные часы низкое декабрьское солнце пряталось в городе за домами. О том, что я давно не видел его, я вспомнил четвертого января, перейдя железнодорожные пути, в Старом Петергофе, когда оно явило себя огромным (потому что на закате — огромным) и не солнцем-блином (когда не зимой на закате), а именно — солнцем. Самое удивительное, что час назад случился снег, — кажется, единственный раз за прошедшие дни. Небо и сейчас оставалось затянутым облаками, и только понизу был просвет, словно нарочно для солнца, — не уверен, что эти минуты зачтутся у синоптиков в счет солнечных. Конечно, подумал, что это знак, а кроме того, что, может быть, никогда, житель Петербурга, я не видел в такие зимние дни петербургского закатного солнца. Пока ехал на автобусе до Старопетергофского кладбища, оно уже село, да там и не видно было бы: деревья, дома.
Позже, затемно, когда поминали Аверина у него в Сергиево (он не выносил название Володарский, как и название своей улицы), его старые друзья по зимовкам на Земле Франца-Иосифа вспомнили сегодняшний внезапный снег, я тут же сказал про солнце и услышал: да, да, полярное солнце!
А к солнцу он относился серьезно, зная цену ему. Отмечал астрономические события: день летнего равноденствия, например, — зазывал гостей посетить Луговой парк, прийти к Бельведеру, а если силы позволят — гостей, не его, он-то был готов всегда — отправиться вверх по петергофскому водоводу. И зимой — солнцестояние: это тоже нельзя пропустить — когда в конце декабря петербургская ночь, более не способная разрастаться, остается практически неизменной на протяжении нескольких суток, — тьма, конечно, отступит, но пока она не сдалась, чем мы можем ответить ей, как не бодростью духа? На зиму у него были приготовлены свои маршруты. Например «на остров», как он говорил, и действительно, на островок в Луговом парке — туда можно попасть по льду — он взял нас однажды с Крусановым: действительно, остров, исторические плиты лежат, деревья, гладь пруда — место хорошее для симпозиума… Еще у него был летний «остров», это уже в лесу — небольшой, на болоте…
С природой у него, без преувеличения, были свои, особые отношения — сопричастности. Так же, как с литературой, по-моему. Он умел входить в чужой текст, как в свой дом; для кого-то это всего лишь рассказанная история, информация, более-менее образно поданная, — для него это среда обитания, воздух, земля, тропинки, урочища, о которых, быть может, не подозревал сам автор. С природой, в целом, то же. Она ему отвечала. И не то что бы слушалась, но прислушивалась как бы. Как будто слушали друг друга — и слышали. Это походило на шутку, когда он говорил, что «закажет для вас солнце» или что «до половины четвертого не будет дождя», мол, приезжайте, пойдем в поход по петергофскому водоводу, или «в лес», или «я сегодня знаю, куда», — но ведь так и было: никогда не обманывал. Понятно, опыт работы на метеостанции. Но что-то еще тут кроме того.
Мне кажется, есть три класса объектов, к которым он питал особую приязнь. И опять же, они ему отвечали.
Первое — грибы. Я и представить не мог, что под Петергофом столько грибов. Он, конечно, знал места. Место и время. Но у меня вообще создалось впечатление, что это не он искал грибы, а грибы его находили. Фотография, он сидит на коленях в траве перед «ведьминым кругом» из лисичек, попала во Францию и произвела в определенных кругах фурор, спрашивали уже оттуда: где это, возможно ли такое? Да и в самом деле, «ведьмин круг» лисичек — под Петергофом!
Второе — деревья. Помню, с каким уважением, как о людях почти, отзывался он о старых деревьях парка, о дубах екатерининских времен… Он хотел, чтобы друзья писатели посадили ему по дереву на участке. Он всем рассказывал об этих деревьях. Мы ходили в лес, чтобы выкопать и пересадить клен…
Третье — облака. Он знал их по именам, причем латинским. Он знал их характеры, нрав, причуды. Поэтому он смотрел на небо чаще других.
Как-то нас накрыла в лесу непогода. Это было 29 июля 2010 года, тогда по области прошел ураган, задел он и окрестности Петергофа. Несколько деревьев упало на наших глазах, речка Шингарка каким-то непостижимом образом вышла из берегов, и нам пришлось идти по воде.
Я написал стихотворение ко дню его рождения, или как угодно — рифмованный рассказ, мемуарий о той прогулке. Кажется, это его развлекло, знаю, что читал другим, — потому и привожу. Только вот день рождения оказался последним.
* * *
Иногда профессор Аверин берет меня на природу.
Хорошо, когда нет дождя и не жарко.
Мы обычно идем с ним в лес по Петергофскому водоводу.
Старо-Петергофский канал — дальше река Шингарка.
В этот раз мы — во! — припозднились-то оба как!
Из меня предсказатель погоды — хуже валенка.
— Это что, Борис Валентинович, за страшное облако?
— Cumulonimbus, — он говорит. — Там еще наверху наковаленка.
Будет буря с грозою. Польет как из бочки.
Все к тому, что нам вряд ли помогут накидки.
Предлагаю, говорит, переждать непогоду на этой кочке.
Сели мы, значит, на кочку и достали напитки.
Стал Борис Валентинович говорить про Набокова,
Стал рассказывать мне о трансцендентальном.
И хотя мои мысли блуждали около,
был и я сопричастен глубоким тайнам.
Между тем уже час как хляби отверзлись,
Твердь от грома дрожала под черною тучею,
Потому как природе наша трезвость-нетрезвость
Глубоко безразлична, что известно по Тютчеву.
И казалось, что не будет никогда больше солнышка.
И земля на глазах становилась как тесто.
А Борис Валентинович, отпив из горлышка,
О понимании говорил и неполноте контекста.
Петергофский водовод шумел, как Арагва.
Разлеталось пространство от молний на части.
Что бы делал я дома? Писал параграф?
А Борис Валентинович говорил о счастье.
В смысле холода все-таки тут не полюс —
Я зубами, тут сидя, еще поскрипел бы.
Только смыло ведь кочку, и пошли мы по пояс —
По колено в воде, когда без гипербол.
Шел вперед Борис Валентинович, глядя в небо кипучее.
На ветру мне размахивалось почему-то руками.
Надо думать, мы думали о судьбе, о понимании, о пределах величия случая
и о том, что мы все — под облаками.
Позже, затемно, когда поминали Аверина у него в Сергиево (он не выносил название Володарский, как и название своей улицы), его старые друзья по зимовкам на Земле Франца-Иосифа вспомнили сегодняшний внезапный снег, я тут же сказал про солнце и услышал: да, да, полярное солнце!
А к солнцу он относился серьезно, зная цену ему. Отмечал астрономические события: день летнего равноденствия, например, — зазывал гостей посетить Луговой парк, прийти к Бельведеру, а если силы позволят — гостей, не его, он-то был готов всегда — отправиться вверх по петергофскому водоводу. И зимой — солнцестояние: это тоже нельзя пропустить — когда в конце декабря петербургская ночь, более не способная разрастаться, остается практически неизменной на протяжении нескольких суток, — тьма, конечно, отступит, но пока она не сдалась, чем мы можем ответить ей, как не бодростью духа? На зиму у него были приготовлены свои маршруты. Например «на остров», как он говорил, и действительно, на островок в Луговом парке — туда можно попасть по льду — он взял нас однажды с Крусановым: действительно, остров, исторические плиты лежат, деревья, гладь пруда — место хорошее для симпозиума… Еще у него был летний «остров», это уже в лесу — небольшой, на болоте…
С природой у него, без преувеличения, были свои, особые отношения — сопричастности. Так же, как с литературой, по-моему. Он умел входить в чужой текст, как в свой дом; для кого-то это всего лишь рассказанная история, информация, более-менее образно поданная, — для него это среда обитания, воздух, земля, тропинки, урочища, о которых, быть может, не подозревал сам автор. С природой, в целом, то же. Она ему отвечала. И не то что бы слушалась, но прислушивалась как бы. Как будто слушали друг друга — и слышали. Это походило на шутку, когда он говорил, что «закажет для вас солнце» или что «до половины четвертого не будет дождя», мол, приезжайте, пойдем в поход по петергофскому водоводу, или «в лес», или «я сегодня знаю, куда», — но ведь так и было: никогда не обманывал. Понятно, опыт работы на метеостанции. Но что-то еще тут кроме того.
Мне кажется, есть три класса объектов, к которым он питал особую приязнь. И опять же, они ему отвечали.
Первое — грибы. Я и представить не мог, что под Петергофом столько грибов. Он, конечно, знал места. Место и время. Но у меня вообще создалось впечатление, что это не он искал грибы, а грибы его находили. Фотография, он сидит на коленях в траве перед «ведьминым кругом» из лисичек, попала во Францию и произвела в определенных кругах фурор, спрашивали уже оттуда: где это, возможно ли такое? Да и в самом деле, «ведьмин круг» лисичек — под Петергофом!
Второе — деревья. Помню, с каким уважением, как о людях почти, отзывался он о старых деревьях парка, о дубах екатерининских времен… Он хотел, чтобы друзья писатели посадили ему по дереву на участке. Он всем рассказывал об этих деревьях. Мы ходили в лес, чтобы выкопать и пересадить клен…
Третье — облака. Он знал их по именам, причем латинским. Он знал их характеры, нрав, причуды. Поэтому он смотрел на небо чаще других.
Как-то нас накрыла в лесу непогода. Это было 29 июля 2010 года, тогда по области прошел ураган, задел он и окрестности Петергофа. Несколько деревьев упало на наших глазах, речка Шингарка каким-то непостижимом образом вышла из берегов, и нам пришлось идти по воде.
Я написал стихотворение ко дню его рождения, или как угодно — рифмованный рассказ, мемуарий о той прогулке. Кажется, это его развлекло, знаю, что читал другим, — потому и привожу. Только вот день рождения оказался последним.
* * *
Иногда профессор Аверин берет меня на природу.
Хорошо, когда нет дождя и не жарко.
Мы обычно идем с ним в лес по Петергофскому водоводу.
Старо-Петергофский канал — дальше река Шингарка.
В этот раз мы — во! — припозднились-то оба как!
Из меня предсказатель погоды — хуже валенка.
— Это что, Борис Валентинович, за страшное облако?
— Cumulonimbus, — он говорит. — Там еще наверху наковаленка.
Будет буря с грозою. Польет как из бочки.
Все к тому, что нам вряд ли помогут накидки.
Предлагаю, говорит, переждать непогоду на этой кочке.
Сели мы, значит, на кочку и достали напитки.
Стал Борис Валентинович говорить про Набокова,
Стал рассказывать мне о трансцендентальном.
И хотя мои мысли блуждали около,
был и я сопричастен глубоким тайнам.
Между тем уже час как хляби отверзлись,
Твердь от грома дрожала под черною тучею,
Потому как природе наша трезвость-нетрезвость
Глубоко безразлична, что известно по Тютчеву.
И казалось, что не будет никогда больше солнышка.
И земля на глазах становилась как тесто.
А Борис Валентинович, отпив из горлышка,
О понимании говорил и неполноте контекста.
Петергофский водовод шумел, как Арагва.
Разлеталось пространство от молний на части.
Что бы делал я дома? Писал параграф?
А Борис Валентинович говорил о счастье.
В смысле холода все-таки тут не полюс —
Я зубами, тут сидя, еще поскрипел бы.
Только смыло ведь кочку, и пошли мы по пояс —
По колено в воде, когда без гипербол.
Шел вперед Борис Валентинович, глядя в небо кипучее.
На ветру мне размахивалось почему-то руками.
Надо думать, мы думали о судьбе, о понимании, о пределах величия случая
и о том, что мы все — под облаками.
Татьяна Пономарева
***
Есть такие имена, одно упоминание которых сразу улучшает настроение и самочувствие. Одно из таких имен — Борис Валентинович Аверин. Недавно для своей работы я перечитала его книгу о Набокове «Дар Мнемозины». Кроме того, что эта книга — прекрасное исследование, сколько же в ней любви, уважения автора к своему главному герою! А ведь в 90х годах, когда Борис Валентинович начинал над ней работать, в российской критике по отношению к Набокову еще преобладала интонация, которую можно назвать «да, но…». Да, блестящий стилист, но … и дальше «холодный», «сноб», и другие подобные определения, которые, как ни смешно, сам Набоков заранее вложил в уста своих воображаемых критиков. Но в книге Аверина ничего этого нет. Мне кажется, что он бы и не смог заниматься писателем, который ему неинтересен или неприятен. Что-то ниспровергнуть, кого-то развенчать — трудно представить, чтобы Борис Валентинович мог тратить на это свой талант исследователя.
Мне вообще кажется, что основанием всему, что он делал, о чем писал, была любовь. Мало кто, как он, умел восхищаться чужой находкой, радоваться чужому успеху, и не только своих друзей, но и не знакомых ему лично коллег по набоковедению. Сколько раз я слышала от него: «А N, оказывается, такую книжку (статью) написал!»
Я познакомилась с Борисом Валентиновичем уже в годы работы в Музее Набокова. Но сложилось так, что я меньше, чем хотелось бы, общалась с ним за эти семнадцать лет в музее. Причина одна — кроме меня, в музее работали лишь три человека, и свободного времени оставалось очень мало. Но Борис Валентинович, незримо, был в музее всегда, потому что, приходя каждый день на работу, я видела перед собой его учеников: почти все сотрудники музея последних лет были его учениками. Теперь нашего музея больше нет, но мы все, создававшие и хранившие, по-прежнему интересны друг другу; и я очень рада, что ученики Бориса Валентиновича, хотя и ушли из СПбГУ, но не ушли из литературоведения — они очень успешно учатся и работают в лучших вузах и научных институтах России.
Много лет назад, в годы учебы на филфаке, мы с подругами одно время увлекались спиритическими сеансами. (Вспоминать об этом не так стыдно, если помнить, что и Набоков в детстве был окружен спиритическими сеансами, которыми, как и многие в то время, увлекалась его мать). Все мы писали курсовые, дипломы, и однажды решили испробовать новый способ «научного познания» — вызвать дух своего автора и получить ответы, так сказать, из первых рук. Время было еще советское, Набоков был запрещен, я писала работу по Уильяму Блейку, и вот ему я и задала прямой вопрос: а что он имел в виду в таком-то месте своей поэмы? В ответ, конечно же, проступила буквами полная бессмыслица. (После студенческих лет я никогда не возвращалась к этим опытам, но мне повезло, и многое я потом успела спросить у Дмитрия Владимировича Набокова).
А ведь в самом деле, кто из нас не мечтал о том, чтобы сам автор нам все объяснил, подтвердил или опроверг наше прочтение? Что именно случилось с Мартыном в «Подвиге»? Полон загадок «Пнин» — и роман, и человек. И что это за рифмованная тайна из стихотворения «Слава», точнее которой «сказать я не вправе»? У каждого из нас, читателей и исследователей Набокова, много таких вопросов.
Кто знает, возможно, именно сейчас Борис Валентинович беседует с Набоковым. И, возможно, задает ему свои вопросы, которые всегда хотел задать. И Набоков ему отвечает, потому что допускает к себе только тех, кто, как Борис Валентинович Аверин, способен любить.
Мне вообще кажется, что основанием всему, что он делал, о чем писал, была любовь. Мало кто, как он, умел восхищаться чужой находкой, радоваться чужому успеху, и не только своих друзей, но и не знакомых ему лично коллег по набоковедению. Сколько раз я слышала от него: «А N, оказывается, такую книжку (статью) написал!»
Я познакомилась с Борисом Валентиновичем уже в годы работы в Музее Набокова. Но сложилось так, что я меньше, чем хотелось бы, общалась с ним за эти семнадцать лет в музее. Причина одна — кроме меня, в музее работали лишь три человека, и свободного времени оставалось очень мало. Но Борис Валентинович, незримо, был в музее всегда, потому что, приходя каждый день на работу, я видела перед собой его учеников: почти все сотрудники музея последних лет были его учениками. Теперь нашего музея больше нет, но мы все, создававшие и хранившие, по-прежнему интересны друг другу; и я очень рада, что ученики Бориса Валентиновича, хотя и ушли из СПбГУ, но не ушли из литературоведения — они очень успешно учатся и работают в лучших вузах и научных институтах России.
Много лет назад, в годы учебы на филфаке, мы с подругами одно время увлекались спиритическими сеансами. (Вспоминать об этом не так стыдно, если помнить, что и Набоков в детстве был окружен спиритическими сеансами, которыми, как и многие в то время, увлекалась его мать). Все мы писали курсовые, дипломы, и однажды решили испробовать новый способ «научного познания» — вызвать дух своего автора и получить ответы, так сказать, из первых рук. Время было еще советское, Набоков был запрещен, я писала работу по Уильяму Блейку, и вот ему я и задала прямой вопрос: а что он имел в виду в таком-то месте своей поэмы? В ответ, конечно же, проступила буквами полная бессмыслица. (После студенческих лет я никогда не возвращалась к этим опытам, но мне повезло, и многое я потом успела спросить у Дмитрия Владимировича Набокова).
А ведь в самом деле, кто из нас не мечтал о том, чтобы сам автор нам все объяснил, подтвердил или опроверг наше прочтение? Что именно случилось с Мартыном в «Подвиге»? Полон загадок «Пнин» — и роман, и человек. И что это за рифмованная тайна из стихотворения «Слава», точнее которой «сказать я не вправе»? У каждого из нас, читателей и исследователей Набокова, много таких вопросов.
Кто знает, возможно, именно сейчас Борис Валентинович беседует с Набоковым. И, возможно, задает ему свои вопросы, которые всегда хотел задать. И Набоков ему отвечает, потому что допускает к себе только тех, кто, как Борис Валентинович Аверин, способен любить.
Анастасия Принцева
***
Помню момент, когда Аверин вошел в мою жизнь. Когда читала комментарии про него, удивительно, насколько люди четко помнят свое первое узнавание Бориса Валентиновича — например, 1 января 1987 года и другие даты и мельчайшие подробности. У меня было так: большая аудитория филфака, слева из окон потоки света, в которых плавают пылинки, за кафедрой невозможно худой, ушастый и голубоглазый Аверин рассказывает что-то о Бунине. И вдруг все застыло и объединилось: пылинки в потоках света, шорох аудитории и его слова о «восторге бытия». Он умел распахивать души.
Потом я ходила на все его лекции и семинары, но я училась на западном и личного общения почти не было, я не была его ученицей.
В 2012 году я набралась смелости, позвонила ему и предложила делать программы на НеваФМ, он пришел и мы сразу подружились. Он называл меня «мой редактор». Потом Нева закрылась и я стала организовывать ему лекции. Мы совсем подружились, ездили с детьми к нему домой и высаживали редиску, Вася ловил у него в пруду карпов и играл с ним в шахматы. Каждый раз из своих поездок на море он привозил мне подарочки — золотую стрекозу, ради которой он обошел с Марией Наумовной весь городок на Кипре, кулоны, белые тапочки на меху из Сочи, подушечку, набитую травами. Никогда не забывал про подарочки. И в этот раз я не успела с ним увидеться после возвращения и когда Мария Наумовна мне сказала, что ночью он умер, она прибавила: «У меня для вас от него подарок». И принесла его на похороны — нежный кулончик из Турции.
Он мог позвонить вечером и сказать: «Голубушка, я соскучился». За столько лет близкого общения его попреки сводились только к одному: «Голубушка, ну что же вы не звоните? Ну что же вы не приезжаете?», хотя наверняка я совершала какие-то ошибки или некрасивости и ему было за что обидеться или в чем-то упрекнуть. Но от этой его безусловной любви ты невольно сам становился лучше. «Настенька, не обижайте матушку, Настя, не ругайте детей». «Дети, не обижайте маму». «Матушка, не обижайте дочку». Людям он прощал, старался видеть в них хорошее, а не плохое. К официанту обращался «коллега». Хотя святошей не был.
Он стал для меня вторым отцом, я знала, что он есть, и что он меня любит.
На прощании было очень много осиротевших людей с растерянными лицами — от восьмидесятилетних до совсем юных. Они потеряли отца, друга, учителя — родного, очень близкого человека.
Совершенно незаменимого.
Я думала, на кого же он все-таки похож. И больше всего для меня он похож на моего сына Васю своей невероятной наивностью. Врать он не умел патологически, то есть в ту секунду, когда он пытался наврать, это было видно даже лучше, чем когда врет Вася. И с испугу верил в свое вранье, точно как Вася, который сразу и абсолютно верит в свое мелкие выдумки.
Удивительно, что он мог рассказывать об очень низовых сексуальных темах — у Бунина, В «Лолите», у символистов — оставаясь совершенно по-детски чистым. «Лолиту» он называл глубоко нравственным произведением и добавлял анекдот: «Что отличают педофила от педагога? Педофил по-настоящему любит детей». С юмором и самоиронией все было прекрасно.
Он всегда транслировал одну и ту же мысль: цель жизни — сохранить детское ощущение жизни, восторг бытия, которое по Толстому выражается в «невинной веселости и беспредельной потребности любви», а смысл жизни — сберечь душу, одолженную нам на время. Так и жил, поэтому вокруг него все светилось — сводил хороших людей, всем помогал, носил пакетами еду бедным одиноким одноклассницам, сохранял дружбу со школы и полярных зимовок, когда ему было 20 с небольшим.
«Настя, это мы, полярники, можно попасть на лекцию?».
Смерть он называл благодеянием, но все равно ее боялся и очень хотел жить.
Мир осиротел. Но его смерть стала посланием. Живу всю жизнь словно впроброс, а теперь стало как-то гораздо ответственнее. Перед ним и перед собой.
— Настя, у нас тут все включено и нам в наш номер постоянно носят бутылочки с этими гадкими напитками, их уже куча скопилась.
— Настя, мы с Машей открыли все же бутылочку и попробовали Кока-колу. Вкуснейший напиток!
— Настя, я привез бутылочки Кока-колы Гарику, еще осталось несколько, приезжайте!
Потом я ходила на все его лекции и семинары, но я училась на западном и личного общения почти не было, я не была его ученицей.
В 2012 году я набралась смелости, позвонила ему и предложила делать программы на НеваФМ, он пришел и мы сразу подружились. Он называл меня «мой редактор». Потом Нева закрылась и я стала организовывать ему лекции. Мы совсем подружились, ездили с детьми к нему домой и высаживали редиску, Вася ловил у него в пруду карпов и играл с ним в шахматы. Каждый раз из своих поездок на море он привозил мне подарочки — золотую стрекозу, ради которой он обошел с Марией Наумовной весь городок на Кипре, кулоны, белые тапочки на меху из Сочи, подушечку, набитую травами. Никогда не забывал про подарочки. И в этот раз я не успела с ним увидеться после возвращения и когда Мария Наумовна мне сказала, что ночью он умер, она прибавила: «У меня для вас от него подарок». И принесла его на похороны — нежный кулончик из Турции.
Он мог позвонить вечером и сказать: «Голубушка, я соскучился». За столько лет близкого общения его попреки сводились только к одному: «Голубушка, ну что же вы не звоните? Ну что же вы не приезжаете?», хотя наверняка я совершала какие-то ошибки или некрасивости и ему было за что обидеться или в чем-то упрекнуть. Но от этой его безусловной любви ты невольно сам становился лучше. «Настенька, не обижайте матушку, Настя, не ругайте детей». «Дети, не обижайте маму». «Матушка, не обижайте дочку». Людям он прощал, старался видеть в них хорошее, а не плохое. К официанту обращался «коллега». Хотя святошей не был.
Он стал для меня вторым отцом, я знала, что он есть, и что он меня любит.
На прощании было очень много осиротевших людей с растерянными лицами — от восьмидесятилетних до совсем юных. Они потеряли отца, друга, учителя — родного, очень близкого человека.
Совершенно незаменимого.
Я думала, на кого же он все-таки похож. И больше всего для меня он похож на моего сына Васю своей невероятной наивностью. Врать он не умел патологически, то есть в ту секунду, когда он пытался наврать, это было видно даже лучше, чем когда врет Вася. И с испугу верил в свое вранье, точно как Вася, который сразу и абсолютно верит в свое мелкие выдумки.
Удивительно, что он мог рассказывать об очень низовых сексуальных темах — у Бунина, В «Лолите», у символистов — оставаясь совершенно по-детски чистым. «Лолиту» он называл глубоко нравственным произведением и добавлял анекдот: «Что отличают педофила от педагога? Педофил по-настоящему любит детей». С юмором и самоиронией все было прекрасно.
Он всегда транслировал одну и ту же мысль: цель жизни — сохранить детское ощущение жизни, восторг бытия, которое по Толстому выражается в «невинной веселости и беспредельной потребности любви», а смысл жизни — сберечь душу, одолженную нам на время. Так и жил, поэтому вокруг него все светилось — сводил хороших людей, всем помогал, носил пакетами еду бедным одиноким одноклассницам, сохранял дружбу со школы и полярных зимовок, когда ему было 20 с небольшим.
«Настя, это мы, полярники, можно попасть на лекцию?».
Смерть он называл благодеянием, но все равно ее боялся и очень хотел жить.
Мир осиротел. Но его смерть стала посланием. Живу всю жизнь словно впроброс, а теперь стало как-то гораздо ответственнее. Перед ним и перед собой.
— Настя, у нас тут все включено и нам в наш номер постоянно носят бутылочки с этими гадкими напитками, их уже куча скопилась.
— Настя, мы с Машей открыли все же бутылочку и попробовали Кока-колу. Вкуснейший напиток!
— Настя, я привез бутылочки Кока-колы Гарику, еще осталось несколько, приезжайте!
Оксана Сабурова
История знакомства
Борис Валентинович любил делать подарки. Книги и фотографии, грибы, собранные в лесу, кабачки с собственной грядки. Помню, однажды он приготовил подарки всем многочисленным гостям, которые пришли к нему на день рождения. Мне досталась керамическая селедочница. Вот ведь… Вообще говоря, любовь к рыбе — это отдельная тема. Неважно, был ли это ценный кижуч или простецкая килька, требования и отбор были самыми строгими. Такие покупки не делались с бухты-барахты, приобретению, как правило, сопутствовал предварительный анализ (дата вылова, производитель) и подробный разговор с продавцом (а желательно, близкое и дружеское с ним знакомство). Понятное дело, рыба, которой угощал Борис Валентинович, всегда была отменного качества. А угощать, кормить он любил, наверно, не меньше, чем делать подарки. Причем сам он ел исключительно мало, как мотылек, и его худоба граничила почти с бесплотностью. Но угощать ближних — совсем другое дело.
Об этой его особенности я узнала в первый же год нашего знакомства, когда училась в аспирантуре. Борис Валентинович был моим научным руководителем, и мне полагалось помогать ему принимать экзамены. После экзаменов, когда ведомости были уже отправлены в деканат, Аверин объявлял: «Работника нужно кормить. Так говорил Бялый, мой учитель» — и вел меня «кормить». Все было как положено: холодная закуска, горячее, сто грамм ледяной водки, кофе и десерт. Программа не всегда, конечно, бывала полной, но в целом так. Я послушно ела и слушала, а Борис Валентинович развлекал меня разными историями. Думаю, именно тогда, найдя в моем лице и едока, и работника, и слушателя, он проникся ко мне самой дружеской симпатией и еще долгие годы вспоминал о наших экзаменах.
Об этих экзаменах стоит сказать отдельно. Студенты, особенно не самые старательные, обманутые моей миролюбивой внешностью, шли прямо ко мне, Аверина побаивались — профессор! — и напрасно. Получить зачет у Бориса Валентиновича было проще простого. Вывести на чистую воду он никого не старался. Для него это была форма общения, возможность поговорить. Если студент ничего не мог сообщить, например, по поводу эпиграфа к «Анне Карениной» или теории фон Корена из чеховской «Дуэли», это значило только одно: Аверин все, что он об этом думает, ему, этому студенту (а заодно и всем остальным), будет рассказывать сам. Минут двадцать. А если учесть, что студентов много… Поэтому Бориса Валентиновича очень радовало и несколько даже удивляло, что «мои» студенты буквально летали — один за другим, и не все с зачетом. «Если человек ничего не знает, ну, может, к следующему разу что-то прочитает», — так я рассуждала.
Только один раз, во всяком случае на моей памяти, Борис Валентинович зачета не поставил. Элитное английское отделение, переводчики. Очень знающему на вид парню досталось «На дне», вызвало затруднение. Аверин помогает: «Ну, расскажите, что это, кто автор, о чем там?» — «Это рассказ Чехова, — отвечает тот, и глазом не моргнув, — там изображены все слои общества». Этот случай был исключением. Даже если ты ничего не знал, Аверина можно было просто попросить, рассказать, например, про заболевшую маму, и — вуаля! — зачет в кармане, счастливый студент гуляет. Сколько лет прошло с тех пор… Двадцать. Сейчас я иначе вспоминаю эту историю про больную маму. Возможно, тот мальчик, получивший тогда свой зачет, весь семестр просто пил пиво на скамеечке, но тоже, как и я, запомнил эту историю на всю жизнь. И когда-нибудь он поступит «неправильно», сделает кому-то подарок — окажет помощь тому, кто этого, может быть, и не заслуживает.
Аверин и мне однажды «незаслуженно» помог. Закончив русское отделение филфака и получив наконец диплом, не какой-то, а красный, я была в самых расстроенных чувствах; мне так не хотелось уходить из университета, и вообще было непонятно, куда идти и что делать. Никому я со своим красным дипломом была не нужна, и уж тем более в аспирантуре! И я обратилась к Борису Валентиновичу, который меня не знал и, собственно, видел впервые (мне-то, конечно, он был известен, поскольку я, как и многие, ходила вольнослушателем на его лекции по Серебряному веку и Набокову). Вручила я ему свое дипломное сочинение и попросила почитать. Аверин почитал и, когда узнал, что я хочу получить от него рекомендацию в аспирантуру, обрадовался: «Ну конечно, пожалуйста, сдавайте экзамены, учитесь, дело хорошее». Он-то решил сначала, что я хочу издать — с его помощью конечно! — свой труд в виде монографии, а тут просто рекомендация (без нее документы не брали). Благополучно сдав экзамены, я оказалась зачислена в аспирантуру. И встал вопрос о научном руководителе. Выяснилось, что на кафедре русской литературы у двух преподавателей — Марковича и Аверина — аспирантов слишком много. Поэтому, объявил Аскольд Борисович Муратов, заведующий кафедрой, они могут либо отказаться от «лишних», либо взять их себе, так сказать, на общественных началах, — если пожелают. И стал вслух оглашать список лишних аспирантов. Я сидела красная, в глазах стояли слезы, ждала публичного позора — как от меня «откажутся». Потому что ни о каком «руководстве» с Борисом Валентиновичем мы не договаривались, и на тот момент, подозреваю, он вообще обо мне уже не помнил. Но он не отказался, взял неизвестную ему Сабурову. Так я и стала его ученицей, и может быть, чему-то даже научилась.
«Добро иррационально, и в подлинной красоте нет пользы. Но они отражают духовную сущность этого мира».
«Никто не бывает более жестоким, чем тот, который прав».
«Мы не знаем контекста, в котором происходит наша жизнь. И никто не знает настоящей правды».
«Время имеет форму круга».
«Каждый момент настоящего соединяется с прошлым. И прошлое входит в настоящее».
«Всякое знание есть припоминание».
Вторая весна, которую не увидит Аверин… Он очень любил это время. Помню нашу последнюю прогулку. Деревья стоят как в зеленой дымке. Комары гудят, птицы поют, природа ликует, поля цветущей сурепки радуют глаз. Борис Валентинович ведет нас — меня и мою коллегу из издательства — по одному из своих излюбленных маршрутов через Заячий Ремиз. В рюкзачке бутылка грузинского полусладкого вина и пучок молодой тонкокожей редиски, купленной на станции «у бабушки»… Скоро привал.
Когда зацветет сурепка, надо будет снова пройти по этому маршруту.
Об этой его особенности я узнала в первый же год нашего знакомства, когда училась в аспирантуре. Борис Валентинович был моим научным руководителем, и мне полагалось помогать ему принимать экзамены. После экзаменов, когда ведомости были уже отправлены в деканат, Аверин объявлял: «Работника нужно кормить. Так говорил Бялый, мой учитель» — и вел меня «кормить». Все было как положено: холодная закуска, горячее, сто грамм ледяной водки, кофе и десерт. Программа не всегда, конечно, бывала полной, но в целом так. Я послушно ела и слушала, а Борис Валентинович развлекал меня разными историями. Думаю, именно тогда, найдя в моем лице и едока, и работника, и слушателя, он проникся ко мне самой дружеской симпатией и еще долгие годы вспоминал о наших экзаменах.
Об этих экзаменах стоит сказать отдельно. Студенты, особенно не самые старательные, обманутые моей миролюбивой внешностью, шли прямо ко мне, Аверина побаивались — профессор! — и напрасно. Получить зачет у Бориса Валентиновича было проще простого. Вывести на чистую воду он никого не старался. Для него это была форма общения, возможность поговорить. Если студент ничего не мог сообщить, например, по поводу эпиграфа к «Анне Карениной» или теории фон Корена из чеховской «Дуэли», это значило только одно: Аверин все, что он об этом думает, ему, этому студенту (а заодно и всем остальным), будет рассказывать сам. Минут двадцать. А если учесть, что студентов много… Поэтому Бориса Валентиновича очень радовало и несколько даже удивляло, что «мои» студенты буквально летали — один за другим, и не все с зачетом. «Если человек ничего не знает, ну, может, к следующему разу что-то прочитает», — так я рассуждала.
Только один раз, во всяком случае на моей памяти, Борис Валентинович зачета не поставил. Элитное английское отделение, переводчики. Очень знающему на вид парню досталось «На дне», вызвало затруднение. Аверин помогает: «Ну, расскажите, что это, кто автор, о чем там?» — «Это рассказ Чехова, — отвечает тот, и глазом не моргнув, — там изображены все слои общества». Этот случай был исключением. Даже если ты ничего не знал, Аверина можно было просто попросить, рассказать, например, про заболевшую маму, и — вуаля! — зачет в кармане, счастливый студент гуляет. Сколько лет прошло с тех пор… Двадцать. Сейчас я иначе вспоминаю эту историю про больную маму. Возможно, тот мальчик, получивший тогда свой зачет, весь семестр просто пил пиво на скамеечке, но тоже, как и я, запомнил эту историю на всю жизнь. И когда-нибудь он поступит «неправильно», сделает кому-то подарок — окажет помощь тому, кто этого, может быть, и не заслуживает.
Аверин и мне однажды «незаслуженно» помог. Закончив русское отделение филфака и получив наконец диплом, не какой-то, а красный, я была в самых расстроенных чувствах; мне так не хотелось уходить из университета, и вообще было непонятно, куда идти и что делать. Никому я со своим красным дипломом была не нужна, и уж тем более в аспирантуре! И я обратилась к Борису Валентиновичу, который меня не знал и, собственно, видел впервые (мне-то, конечно, он был известен, поскольку я, как и многие, ходила вольнослушателем на его лекции по Серебряному веку и Набокову). Вручила я ему свое дипломное сочинение и попросила почитать. Аверин почитал и, когда узнал, что я хочу получить от него рекомендацию в аспирантуру, обрадовался: «Ну конечно, пожалуйста, сдавайте экзамены, учитесь, дело хорошее». Он-то решил сначала, что я хочу издать — с его помощью конечно! — свой труд в виде монографии, а тут просто рекомендация (без нее документы не брали). Благополучно сдав экзамены, я оказалась зачислена в аспирантуру. И встал вопрос о научном руководителе. Выяснилось, что на кафедре русской литературы у двух преподавателей — Марковича и Аверина — аспирантов слишком много. Поэтому, объявил Аскольд Борисович Муратов, заведующий кафедрой, они могут либо отказаться от «лишних», либо взять их себе, так сказать, на общественных началах, — если пожелают. И стал вслух оглашать список лишних аспирантов. Я сидела красная, в глазах стояли слезы, ждала публичного позора — как от меня «откажутся». Потому что ни о каком «руководстве» с Борисом Валентиновичем мы не договаривались, и на тот момент, подозреваю, он вообще обо мне уже не помнил. Но он не отказался, взял неизвестную ему Сабурову. Так я и стала его ученицей, и может быть, чему-то даже научилась.
«Добро иррационально, и в подлинной красоте нет пользы. Но они отражают духовную сущность этого мира».
«Никто не бывает более жестоким, чем тот, который прав».
«Мы не знаем контекста, в котором происходит наша жизнь. И никто не знает настоящей правды».
«Время имеет форму круга».
«Каждый момент настоящего соединяется с прошлым. И прошлое входит в настоящее».
«Всякое знание есть припоминание».
Вторая весна, которую не увидит Аверин… Он очень любил это время. Помню нашу последнюю прогулку. Деревья стоят как в зеленой дымке. Комары гудят, птицы поют, природа ликует, поля цветущей сурепки радуют глаз. Борис Валентинович ведет нас — меня и мою коллегу из издательства — по одному из своих излюбленных маршрутов через Заячий Ремиз. В рюкзачке бутылка грузинского полусладкого вина и пучок молодой тонкокожей редиски, купленной на станции «у бабушки»… Скоро привал.
Когда зацветет сурепка, надо будет снова пройти по этому маршруту.
Андрей Столяров
Борис Аверин: На чистовик
В поколение «шестидесятников» входили разные люди. Среди них были и те, кто не занимал позицию открытого противостояния тирании. Они просто жили так, как, с их точки зрения, положено жить человеку. Правда, одного этого было достаточно, чтобы поставить под сомнение все, что говорила и делала советская власть.
Читатель
Вызванный в КГБ он прокололся в первые же минуты допроса. Следователь его спросил:
— Вы Солженицына читали?
Напомним, что Солженицын был тогда категорически запрещен. Владелец книги мог получить приличный срок.
— Читал, — спокойно ответил Борис Аверин.
— И где вы его достали?
— В спецхране!
Он был уверен, что выкрутился. Сотрудники филологического факультета имели доступ в хранилище, где содержалась запрещенная литература.
— В списках лиц, допущенных к спецхрану вас нет, — сказал следователь…
Это был 1981 год. Ни о гласности, ни о демократии еще никто слыхом не слыхивал. Бориса Аверина допрашивали дважды по шесть часов: хотели, чтобы он письменно охарактеризовал студентов своего факультета.
Писать он ничего не стал.
Его отпустили.
Легко отделался.
Примерно в это же время его дальний родственник, действительно диссидент, позже умерший в лагерях, узнав, что Бориса Аверина хотят подключить к нелегальной деятельности, сказал:
— Не надо.
— Почему?
— Он и так свое дело делает…
Просыпаюсь: Здрасьте!
Какое же дело он делал?
В 1981 году он написал книгу по автобиографической прозе. Эта книга должна была стать основой его докторской диссертации.
В издательстве ему сказали:
— Книга хорошая. Мы можем ее напечатать. Однако в ней есть концептуальный просчет. Отсутствуют ссылки на В. И. Ленина.
— Простите, Ленин об автобиографической прозе ничего не писал.
— Ссылки все равно должны быть…
Его уговаривали довольно долго. Советовали поставить цитату чисто формально. Чтобы бросалось в глаза — притянуто за уши.
Так делали все.
Борис Аверин так делать не стал.
Книга не вышла.
Диссертацию завернули.
Кто знал об этом?
Кому надо, тот знал.
Он любил тогда повторять стишок, сочиненный одним из его приятелей:
Пионеры всей страны
Делу Ленина верны.
Только двоечник Аверин
Делу Ленина не верен.
И еще любил цитировать стихотворение-анекдот:
Просыпаюсь: Здрасьте!
Нет советской власти!
Защитился он только в 1999 году, когда стало уже неудобно: и в газетах, и на радио, и на телевидении его упорно именовали доктором. Никому в голову не приходило, что у него нет докторской степени.
Я рад и даже несколько горд, что присутствовал на этой защите.
Слушатели на люстрах
Так что же он делал?
Он читал лекции по русской литературе.
Он читал и у себя на филологическом факультете, где преподавал почти тридцать лет, и в других институтах, куда его время от времени приглашали. Он читал в техникумах, в библиотеках, в школах, в Домах культуры, в обществе «Знание».
Его слышали десятки тысяч людей.
Ни один подпольный журнал не имел такой колоссальной аудитории.
Он не критиковал советскую власть. Он ее просто не замечал. Иногда позволял себе упомянуть «незадачливого философа», который назвал противоречия Толстого кричащими. В аудитории переглядывались: эта цитата из Ленина была на слуху. Однако, в основном он говорил о Серебряном веке. Декламировал Блока, Ахматову, Цветаеву, Мандельштама.
Вроде бы, ничего особенного.
И вместе с тем, слушатель, ошалевший от советских речевок, вдруг понимал: главное в жизни — вовсе не построение коммунизма. Главное — это слова, складывающиеся в стихи и прозу. Главное — все те же вопросы, которые задает себе человек: как жить, зачем жить, для чего?
Некоторые, по слухам, испытывали настоящее потрясение.
Такого они не слышали никогда.
В начале 1983 года Борис Аверин читал спецкурс по русской религиозной философии. Еще правил Андропов, термин «перестройка» не существовал даже в проекте. Актовый зал филфака был полон. «Висели на люстрах». Послушать Бориса Аверина съезжались со всего города. Диктофоны тогда были редкостью, большинство конспектировало выступления от руки.
Потом эти записи давали читать друзьям и приятелям.
Филолог из Арктики
Родился петербургский филолог вовсе не в Петербурге. Он родился в городе Сандов Калининской области. И прожил там целых пять дней.
Это было в эвакуации.
Затем семья двинулась дальше.
И вовсе не филологом он хотел стать, а спортсменом. Был в детстве дистрофик: не мог одновременно поднять левую руку и правую ногу. Сказывались последствия недоедания. Но уже в старших классах начал показывать хорошие результаты в беге на полторы тысячи метров. Его приглашали на географический факультет. Ленинградские ВУЗы охотно брали спортсменов.
Вмешалась судьба.
Перед важными соревнованиями он заболел, и одним географом в стране стало меньше.
Приятель предложил поступать в Арктическое училище.
Три зимовки на Земле Франца-Иосифа — это кое-что значит. Наверное, отсюда его умение ладить с людьми: не замечать чужих недостатков, видеть лишь лучшее, что есть в человеке. У него было даже армейское звание — младший лейтенант. С тех пор звездочек на погонах не прибавилось: в 1963 году он поступил на филологический факультет Ленинградского университета.
Видимо, тоже — судьба.
В те годы все хотели быть радиоинженерами. Филология, как впрочем и философия, вызывала недоумение.
Занимаются ерундой.
Этой ерундой он потом занимался всю жизнь.
Самый богатый
Он не стал грантовым демократом, не возглавил какой-либо фонд, не заседает ни в каких президиумах. Он не имеет правительственных наград, не получает зарубежных стипендий.
Доктор наук, профессор кафедры истории русской литературы.
Санкт-Петербургский государственный университет.
Более — ничего.
Однако он по-прежнему переживает из-за Андрея Белого: уговорил Любовь Дмитриевну (жену Блока) бежать с ним в Москву, и вдруг испугался — не пришел на вокзал.
Как мог Андрей Белый, поэт, так поступить с женщиной?
Действительно — как?
Юрий Тынянов сказал о декабристе Лунине: «Он дразнил Николая из Сибири письмами, написанными издевательски ясным почерком; тростью он дразнил медведя, — он был легок». Далее это же слово, «легкий», он употребил в отношении Пушкина.
Легкость — это качество гения.
Борис Аверин — удивительно легок.
Он может по пути на какое-нибудь важное совещание, встретить в метро студента, у которого есть к нему некий вопрос, — выйти с ним, сесть где-то в кафе и полтора часа разговаривать о русской поэзии.
Зачем ему совещание?
Он дышит совсем иным воздухом.
Он говорит: У человека есть только три несчастья: смерть, болезнь и богатство. И если первых двух избежать нельзя, то от третьего — спаси меня бог.
И еще говорит, что он — самый богатый человек в России.
Ему ничего не нужно.
На чистовик
Однажды он спросил во время какого-то разговора:
— А вы знаете, что в жизни самое страшное?
Я начал мямлить что-то невнятное.
Он отмахнулся:
— Это все ерунда. Самое страшное в жизни то, что ничего нельзя изменить. Нельзя вернуться назад и исправить ошибки. Жить приходится с тем, что сделал.
Не знаю, какие у него были ошибки.
Наверное, были.
И вот теперь — не исправить.
Кажется, лишь тогда я понял, что жить надо набело. Не получится, как в рукописи, заштриховать в прошлом некий поступок и поверх него вписать новый текст.
Все равно проступит сквозь время.
Сам он живет сразу на чистовик.
Единственный раз за двадцать лет приятельских отношений я услышал от него нецензурное выражение. Это по отношению к критику, который вел себя исключительно некрасиво.
Да и то сразу же спохватился: Так нельзя. Ну — больной человек…
Плохих людей он считает больными. Зачем их ругать? Выздоровеют — станут хорошими.
То, что не выздоровеют, ему в голову не приходит.
И всего раз я слышал, как он, не сдержавшись, отозвался об одном современном прозаике:
— Ну, ведь не чувствует языка! Как тупой пилой водит: туда — сюда, туда — сюда…
Впрочем, тут же похвалил этого автора за трудолюбие.
Как стать лучше
Странно, что некоторые литераторы ему завидуют. Как можно завидовать человеку, который не сделал карьеры? И вместе с тем, ничего странного нет. Именно потому и завидуют: ему не нужно то, из-за чего они бьются, не щадя живота.
Легкость его бытия для многих непереносима. Как выразился один петербургский критик:
— Какой-то это такой человек… При нем неудобно говорить неправду.
За что же такого человека любить?
Обычно Бориса Аверина не приглашают ни в какие жюри. Он не участвует в раздаче премиальных слонов. Люди, занимающиеся организацией литературных мистерий, прекрасно знают: Борис Аверин неуправляем. Он может ошибиться, конечно, он может оказаться пристрастным, однако голосовать за нужного человека не станет. И повлиять на него нельзя. Как повлиять на того, кому ничего не нужно?
Зато ему можно позвонить в одиннадцать вечера и спросить насчет смысла жизни. Такой идиотский вопрос. И он коротко, минут за сорок, расскажет — что есть жизнь и в чем ее смысл.
Ведь в самом деле поймешь.
Зато бригада телевидения, бравшая у него интервью, записала вместо пяти минут почти полтора часа.
Не хотели его отпускать.
Режиссер сказал:
— Честное слово, я стал лучше.
Борис Валентинович сидел на спуске к Неве, у самой воды, а на другой стороне, наискось, был «Пушкинский дом».
Институт русской литературы.
Символично для Бориса Аверина.
Некоторые его просто побаиваются.
Кому же хочется стать лучше?
О разных ушах
В одном из последних публицистических сериалов его сняли так, что одно ухо получилось красное, а другое — зеленое.
Вероятно, не сбалансировали в студии свет.
Вот он рассказывает о своем Серебряном веке: Ахматова, Блок, Цветаева, Мандельштам… Мистические прозрения Владимира Соловьева… Изыскания Вячеслава Иванова… Соборность… Преображение христианства…
И у него одно ухо — красное, другое — зеленое.
Он сам смеялся над этим больше всех…
Читатель
Вызванный в КГБ он прокололся в первые же минуты допроса. Следователь его спросил:
— Вы Солженицына читали?
Напомним, что Солженицын был тогда категорически запрещен. Владелец книги мог получить приличный срок.
— Читал, — спокойно ответил Борис Аверин.
— И где вы его достали?
— В спецхране!
Он был уверен, что выкрутился. Сотрудники филологического факультета имели доступ в хранилище, где содержалась запрещенная литература.
— В списках лиц, допущенных к спецхрану вас нет, — сказал следователь…
Это был 1981 год. Ни о гласности, ни о демократии еще никто слыхом не слыхивал. Бориса Аверина допрашивали дважды по шесть часов: хотели, чтобы он письменно охарактеризовал студентов своего факультета.
Писать он ничего не стал.
Его отпустили.
Легко отделался.
Примерно в это же время его дальний родственник, действительно диссидент, позже умерший в лагерях, узнав, что Бориса Аверина хотят подключить к нелегальной деятельности, сказал:
— Не надо.
— Почему?
— Он и так свое дело делает…
Просыпаюсь: Здрасьте!
Какое же дело он делал?
В 1981 году он написал книгу по автобиографической прозе. Эта книга должна была стать основой его докторской диссертации.
В издательстве ему сказали:
— Книга хорошая. Мы можем ее напечатать. Однако в ней есть концептуальный просчет. Отсутствуют ссылки на В. И. Ленина.
— Простите, Ленин об автобиографической прозе ничего не писал.
— Ссылки все равно должны быть…
Его уговаривали довольно долго. Советовали поставить цитату чисто формально. Чтобы бросалось в глаза — притянуто за уши.
Так делали все.
Борис Аверин так делать не стал.
Книга не вышла.
Диссертацию завернули.
Кто знал об этом?
Кому надо, тот знал.
Он любил тогда повторять стишок, сочиненный одним из его приятелей:
Пионеры всей страны
Делу Ленина верны.
Только двоечник Аверин
Делу Ленина не верен.
И еще любил цитировать стихотворение-анекдот:
Просыпаюсь: Здрасьте!
Нет советской власти!
Защитился он только в 1999 году, когда стало уже неудобно: и в газетах, и на радио, и на телевидении его упорно именовали доктором. Никому в голову не приходило, что у него нет докторской степени.
Я рад и даже несколько горд, что присутствовал на этой защите.
Слушатели на люстрах
Так что же он делал?
Он читал лекции по русской литературе.
Он читал и у себя на филологическом факультете, где преподавал почти тридцать лет, и в других институтах, куда его время от времени приглашали. Он читал в техникумах, в библиотеках, в школах, в Домах культуры, в обществе «Знание».
Его слышали десятки тысяч людей.
Ни один подпольный журнал не имел такой колоссальной аудитории.
Он не критиковал советскую власть. Он ее просто не замечал. Иногда позволял себе упомянуть «незадачливого философа», который назвал противоречия Толстого кричащими. В аудитории переглядывались: эта цитата из Ленина была на слуху. Однако, в основном он говорил о Серебряном веке. Декламировал Блока, Ахматову, Цветаеву, Мандельштама.
Вроде бы, ничего особенного.
И вместе с тем, слушатель, ошалевший от советских речевок, вдруг понимал: главное в жизни — вовсе не построение коммунизма. Главное — это слова, складывающиеся в стихи и прозу. Главное — все те же вопросы, которые задает себе человек: как жить, зачем жить, для чего?
Некоторые, по слухам, испытывали настоящее потрясение.
Такого они не слышали никогда.
В начале 1983 года Борис Аверин читал спецкурс по русской религиозной философии. Еще правил Андропов, термин «перестройка» не существовал даже в проекте. Актовый зал филфака был полон. «Висели на люстрах». Послушать Бориса Аверина съезжались со всего города. Диктофоны тогда были редкостью, большинство конспектировало выступления от руки.
Потом эти записи давали читать друзьям и приятелям.
Филолог из Арктики
Родился петербургский филолог вовсе не в Петербурге. Он родился в городе Сандов Калининской области. И прожил там целых пять дней.
Это было в эвакуации.
Затем семья двинулась дальше.
И вовсе не филологом он хотел стать, а спортсменом. Был в детстве дистрофик: не мог одновременно поднять левую руку и правую ногу. Сказывались последствия недоедания. Но уже в старших классах начал показывать хорошие результаты в беге на полторы тысячи метров. Его приглашали на географический факультет. Ленинградские ВУЗы охотно брали спортсменов.
Вмешалась судьба.
Перед важными соревнованиями он заболел, и одним географом в стране стало меньше.
Приятель предложил поступать в Арктическое училище.
Три зимовки на Земле Франца-Иосифа — это кое-что значит. Наверное, отсюда его умение ладить с людьми: не замечать чужих недостатков, видеть лишь лучшее, что есть в человеке. У него было даже армейское звание — младший лейтенант. С тех пор звездочек на погонах не прибавилось: в 1963 году он поступил на филологический факультет Ленинградского университета.
Видимо, тоже — судьба.
В те годы все хотели быть радиоинженерами. Филология, как впрочем и философия, вызывала недоумение.
Занимаются ерундой.
Этой ерундой он потом занимался всю жизнь.
Самый богатый
Он не стал грантовым демократом, не возглавил какой-либо фонд, не заседает ни в каких президиумах. Он не имеет правительственных наград, не получает зарубежных стипендий.
Доктор наук, профессор кафедры истории русской литературы.
Санкт-Петербургский государственный университет.
Более — ничего.
Однако он по-прежнему переживает из-за Андрея Белого: уговорил Любовь Дмитриевну (жену Блока) бежать с ним в Москву, и вдруг испугался — не пришел на вокзал.
Как мог Андрей Белый, поэт, так поступить с женщиной?
Действительно — как?
Юрий Тынянов сказал о декабристе Лунине: «Он дразнил Николая из Сибири письмами, написанными издевательски ясным почерком; тростью он дразнил медведя, — он был легок». Далее это же слово, «легкий», он употребил в отношении Пушкина.
Легкость — это качество гения.
Борис Аверин — удивительно легок.
Он может по пути на какое-нибудь важное совещание, встретить в метро студента, у которого есть к нему некий вопрос, — выйти с ним, сесть где-то в кафе и полтора часа разговаривать о русской поэзии.
Зачем ему совещание?
Он дышит совсем иным воздухом.
Он говорит: У человека есть только три несчастья: смерть, болезнь и богатство. И если первых двух избежать нельзя, то от третьего — спаси меня бог.
И еще говорит, что он — самый богатый человек в России.
Ему ничего не нужно.
На чистовик
Однажды он спросил во время какого-то разговора:
— А вы знаете, что в жизни самое страшное?
Я начал мямлить что-то невнятное.
Он отмахнулся:
— Это все ерунда. Самое страшное в жизни то, что ничего нельзя изменить. Нельзя вернуться назад и исправить ошибки. Жить приходится с тем, что сделал.
Не знаю, какие у него были ошибки.
Наверное, были.
И вот теперь — не исправить.
Кажется, лишь тогда я понял, что жить надо набело. Не получится, как в рукописи, заштриховать в прошлом некий поступок и поверх него вписать новый текст.
Все равно проступит сквозь время.
Сам он живет сразу на чистовик.
Единственный раз за двадцать лет приятельских отношений я услышал от него нецензурное выражение. Это по отношению к критику, который вел себя исключительно некрасиво.
Да и то сразу же спохватился: Так нельзя. Ну — больной человек…
Плохих людей он считает больными. Зачем их ругать? Выздоровеют — станут хорошими.
То, что не выздоровеют, ему в голову не приходит.
И всего раз я слышал, как он, не сдержавшись, отозвался об одном современном прозаике:
— Ну, ведь не чувствует языка! Как тупой пилой водит: туда — сюда, туда — сюда…
Впрочем, тут же похвалил этого автора за трудолюбие.
Как стать лучше
Странно, что некоторые литераторы ему завидуют. Как можно завидовать человеку, который не сделал карьеры? И вместе с тем, ничего странного нет. Именно потому и завидуют: ему не нужно то, из-за чего они бьются, не щадя живота.
Легкость его бытия для многих непереносима. Как выразился один петербургский критик:
— Какой-то это такой человек… При нем неудобно говорить неправду.
За что же такого человека любить?
Обычно Бориса Аверина не приглашают ни в какие жюри. Он не участвует в раздаче премиальных слонов. Люди, занимающиеся организацией литературных мистерий, прекрасно знают: Борис Аверин неуправляем. Он может ошибиться, конечно, он может оказаться пристрастным, однако голосовать за нужного человека не станет. И повлиять на него нельзя. Как повлиять на того, кому ничего не нужно?
Зато ему можно позвонить в одиннадцать вечера и спросить насчет смысла жизни. Такой идиотский вопрос. И он коротко, минут за сорок, расскажет — что есть жизнь и в чем ее смысл.
Ведь в самом деле поймешь.
Зато бригада телевидения, бравшая у него интервью, записала вместо пяти минут почти полтора часа.
Не хотели его отпускать.
Режиссер сказал:
— Честное слово, я стал лучше.
Борис Валентинович сидел на спуске к Неве, у самой воды, а на другой стороне, наискось, был «Пушкинский дом».
Институт русской литературы.
Символично для Бориса Аверина.
Некоторые его просто побаиваются.
Кому же хочется стать лучше?
О разных ушах
В одном из последних публицистических сериалов его сняли так, что одно ухо получилось красное, а другое — зеленое.
Вероятно, не сбалансировали в студии свет.
Вот он рассказывает о своем Серебряном веке: Ахматова, Блок, Цветаева, Мандельштам… Мистические прозрения Владимира Соловьева… Изыскания Вячеслава Иванова… Соборность… Преображение христианства…
И у него одно ухо — красное, другое — зеленое.
Он сам смеялся над этим больше всех…
Татьяна Черниговская
***
Борис Валентинович Аверин — личность огромного масштаба, а человек камерный, глубокий и тонкий. И он не был, а есть и будет.
Он — человек другой эпохи, былых времён, когда важны были грани, детали, ассоциации, знания. Эта эпоха ушла, почти попала в музеи, и потому счастливы те, кому повезло пересечься на жизненных тропинках с такими людьми. Замечательно и то, что Борис Валентинович так много своих наблюдений, воспоминаний и знаний записал для телевидения, и это увидят и, надеюсь, оценят многие люди, ещё и не рожденные, будущие люди. Я даже думаю, что это может в некой мере определить наше будущее: человеческое ещё поживет, не сдастся виртуальным кремниевым мирам…
Он — человек другой эпохи, былых времён, когда важны были грани, детали, ассоциации, знания. Эта эпоха ушла, почти попала в музеи, и потому счастливы те, кому повезло пересечься на жизненных тропинках с такими людьми. Замечательно и то, что Борис Валентинович так много своих наблюдений, воспоминаний и знаний записал для телевидения, и это увидят и, надеюсь, оценят многие люди, ещё и не рожденные, будущие люди. Я даже думаю, что это может в некой мере определить наше будущее: человеческое ещё поживет, не сдастся виртуальным кремниевым мирам…
Владимир Шацев
Аверин дорогой
Аверин «дорогой, коль много ты блажен,
Коль больше пред людьми ты счастьем одарен!»
I
1974-ый год — так себе время, и всё же не только мрак. Румяный бородач, с которым я разговорился, возвращаясь из гостей, восторгался светлыми университетскими умами. Мне, студенту Герценовского, было интересно. И завидно. Новый декабрьский яркий снег накрывал привычную слякоть; а высокий, как сейчас помню, в красном шарфе собеседник был воодушевлен своей учебой. На факультете журналистики, громко ликовал мой спутник, волшебные лекции Аверина; да и он сам необыкновенный; нет, не Аверин-цев, просто: Аве-рин, еще есть потрясающий Маркович, и Аверин, Маркович, но Аверин…
Эти два имени превратились в одно: Марк Аверин. Я стал читать статьи Марковича и прислушиваться к рассказам об Аверине.
II
В июне 1985-ого у входа в Центральный лекторий сияла афиша: АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН. Она казалась приснившейся. Имя лектора: Борис Аверин. И почти как в БДТ шестидесятых: народу тьма, билетов, увы и ах…
Но билет (вот же чудо!) дарит едва знакомый праведник. Невероятно было и то, что в итоге Лекторий вместил потом клубившихся у входа людей. Была даже трансляция для тех, кому не повезло, как мне, оказаться в большом лекционном зале.
III
Человек на сцене рассказывал. Обо многом. О романе «В круге первом», о расходящихся как будто по воде кругах зла и кругах добра. Восхищенное внимание людей, ровный голос человека в светлом пиджаке, который говорил еще и о кругах ада у Данте, о Достоевском, о Толстом и вообще о жизни. Уверенное презрение к большевикам, к террору, к Ленину. Это поражало. Я потом мог дословно повторить всё, что было сказано. И часто повторял на уроках и лекциях.
IV
Разговор в 1997-ом году
— Ты знаешь, Маша выходит замуж за Бориса Аверина. Что ты слышал о нем? — сказала мне по телефону Лаура Александровна Виролайнен.
— Помню потрясающую лекцию о Солженицыне. Да, слышал много хорошего. От тех, кто с ним общается и пьет.
— Он пьет?
— Не уверен. Не знаю. Я зря это сказал. Он прекрасный человек. Я читал его статью о Мариенгофе, выразительную и остроумную. Он смел. Он умён.
— Да, я знаю, знаю.
V
С Машей Виролайнен мы дружны давно. Наши мамы возобновили знакомство в роддоме. И вот Петергоф, близ Гостилицкого шоссе квартира на первом этаже. Аверин дарит книги, изданные под его редакцией, сборники, где его статьи. Дарственные надписи на титульных листах подробные, комплиментарные и самоироничные: «от впадающего в детство автора послесловия». Борис Аверин гостеприимен, бодр. Он сама жизнь, внушающая надежду. Такое было впечатление, что у него «в запасе вечность».
Маша:
— Нам на двоих сто лет.
VI
Книги, Авериным подаренные, я демонстрировал коллегам, которые когда-то были его студентами. Мне внимали с восторгом, когда я выдавал что-нибудь такое:
— Сидим мы, значит, на кухне: ужин, то и сё— «и дельный разговор зашел» о Набокове. Если вообразить уроки для продвинутых школьников, то с чего именно начать? По мне так или с «Других берегов», или с двуязычной «Ласточки», а он считает, что начало—это непременно «Машенька». И тут вдруг, —это я всё перед коллегами хвастаюсь знакомством, —серый, как булыжник, кот Томас старается запрыгнуть на плиту, а Борис его, летящего, хватает за шкуру.
VII
Да, мы были на ты и обращались друг к другу без отчеств. Но я не его близкий друг, конечно. Впрочем, приглашали в гости. Поэтому разговоры какие-то случались. Сейчас их вспоминаю.
— Я сам учитель. Я всегда говорю: я учитель литературы. В такси или при встрече с новым человеком. Я для учителя сделаю всё, — говорил он во время возлияний в Машиной квартире, той, что с видом на Неву. — Если ты учитель, то тогда всё для тебя сделаю.
Потом мы вышли в апрельский сумрак (слабый речной ветр, прохлада) на Большеохтинский, чтобы поймать машину. Но прежде Аверин убедил меня завернуть в стеклянную кофейню, где вместо ежедневной страшной музыки — еле слышный Моцарт. Ночь, кофе, музыка, Аверин, разговор о Толстом. Он рассказывал мне о «Детстве», «Отрочестве», «Юности» то, до чего я сам никогда бы не додумался. Я был поражен его наблюдениями, невероятно полезными для учителя. Затем он категорически строго, даже сердито, заплатил таксисту за мой проезд. И, улыбаясь, помахал вслед. Такой не то чтобы молодой Борис Аверин, сколько худой, заостренный, в темной курточке.
И это было больше двадцати лет назад.
VIII
У нас в ФТШ (в Алферовской физтехшколе) уважают академика Сахарова. В библиотеке его большой портрет. И у директора в офисе фотографии Андрея Дмитриевича, книги с дарственными надписями. Ежегодно проходят международные Сахаровские чтения для старшеклассников. На этой конференции была когда-то филологическая секция. Работа жюри основательно (по тем временам: конец 90-х) оплачивалась. Так что для Бориса Валентиновича и Маши (иногда с ним присоединялась Ольга Муравьева, а чаще — Наталья Шварц) это мероприятие было явно полезным.
Доклады на филологической секции редко оказывались самостоятельными. Впрочем, иногда школьники понимали то, что произносят. Даже намек на мысль заинтересовывал Бориса. Он воодушевлялся, расспрашивал о круге чтения, о планах на будущее. Аверин был благосклонен к провинциальным детям (Кемерово, Саров). На тех, кто из столичных школ, смотрел, может, чуть строже. Однажды мой ученик Петя Багров (сейчас заметный историк кино) выступил с докладом. Зачитал письма, полученные его прадедом: одно от Блока, другое от Булгакова. На доклад принес и копии этих уникальных текстов.
Аверин (с готовностью). Где же оригиналы? Я опубликую.
Петя (с чистосердечным сожалением). Этим сейчас занимается Гордин. Он опубликует и прокомментирует.
***
О мистификации мы сообщили на следующий день. Реакция была благодушной. Со смехом.
— Ну, обманули Аверина, ну обманули. Да и ладно…
IX
Потом я работал над диссертацией в ИРЛИ. Мой учитель Сергей Фомичев и Борис Аверин — люди одного поколения и близких взглядов на жизнь. При мне восхищенно отзывались друг о друге.
1
Фомичев (восторженно). Боря — лучший лектор среди нас. И вообще (долгая пауза) он, это самое, лучший среди нас!
2
Я (Борису). Тринадцатый аспирант Фомичева — это я. Он познакомил меня с двенадцатым, который чуть ли не полтора десятка лет писал диссертацию. Так вот двенадцатый мне сказал: «Не хотел расставаться с Сергеем Александровичем».
Аверин. Ах, как я его понимаю!..
X
Никогда так не везло в жизни, как с защитой. Знакомые филологи из ИРЛИ и СПбГУ сочувствовали. Помогали. Чем, кроме консультации и профессиональных рекомендаций, могут академические люди помочь учителю, который, чтоб на время забыть о школе, не умещающейся, грохоча, в черепе, решил перевести дух за сочинением диссертации? Чем? Советами по тому, как вообще диссертация оформляется; помощью по преодолению и обходу бюрократических засад.
«Отзыв ведущей организации»! Да чтоб я раньше знал, что это за организация такая, ведущая, и как от неё добиваться отзыва! Вот Борис Валентинович Аверин и написал от организации (кафедра истории русской литературы филфака СПбГУ) и от себя лестный для меня отзыв, пришел на мою защиту, высказывался, активно симпатизировал.
XI
Когда работал над диссертацией, жил на углу Мойки и Волынского. Аверину было по пути заглянуть ко мне и отдохнуть: вздремнуть, просто полежать на диване, перекусить — перед семинаром. Однажды он поскользнулся на мокром граните, упал. Пришел в песке, соли, грязи. Удалось под ту ситуацию подарить ему, как сейчас помню, темно-зеленый плащ.
Итак, он заходил, чтоб отдохнуть в пути. Беседовали о разном; показывал ему моей фрагменты моей работы. Помню его реплики:
— Это уже было сказано… А тут неубедительно… А это новое… Насколько я знаю, до тебя никто…
Помню, у меня он листал номера «Русской мысли» за 1898-ой год. Интонации узнавания, как если бы он разглядывал список однокурсников: не то чтобы друзей, но полузабытых приятелей молодости, с которыми отношения были в основном хорошие, но разные. Боже мой, Гольцев! Эртель, Орест Федорович Миллер, Спасович, Николай Иванович Стороженко — шекспировед, Головачев, Николай Иванович Кареев, Португалов, Саблин…
XII
Звонок днем или на ночь глядя уже:
— Володя, завтра сможешь заменить меня? Я буду тебе должен сковородку с грибами! Две сковородки с грибами и бутылку водки.
Сейчас понимаю, что нас было немало «избранных счастливцев праздных», готовых заменить прекрасного Аверина, когда он заболевал или уезжал куда-нибудь.
Я читал лекции на физфаке (факультатив) раз пять, наверное, и три раза на филфаке. В самом начале народ слегка роптал: кто мол тут вместо Бориса Валентиновича нашего!
Но потом ничего так; были довольны. Особенно на физфаке:
— Натаныч, физики тебя ценят!
И это лестно. Лестно, что есть вроде как общие студенты. Физики из Петергофа потом приезжали ко мне, чтоб забрать излишек моих книг, вообще пообщаться. Я, как музейный гид, показывал им диван, на котором Аверин «еще вчера отдыхал перед семинаром».
XIII
Впоследствии бывали беседы, в основном в Сергиево. Мы сходились с ним во взглядах на то, что главное качество школьного учителя — быть хорошим рассказчиком, что для современного студента начитанность важнее теоретических знаний, что Высоцкий (драма), Окуджава (лирика), Галич (эпос) — подходящая схема для того, чтоб оживить введение в литературоведение, что липовые планы и фантастические отчеты составлять нельзя (вредно для здоровья). Он растолковывал мне без затей то главное, что надо знать о биографическом методе, о социологическом, о компаративизме; убеждал в том, что Толстого в конце жизни облаивали так же, как сейчас Солженицына; соглашался с тем, что сквернословие даже в малых дозах, кто что ни говори, есть гадкая речевая ветошь.
XIV
Два года уже я в международном проекте. Его участники из Петербурга, Бостона и Киева создают литературный подкаст для взрослых и детей. Он называется «Зеленая лампа». Борис Валентинович Аверин в августе 2018-ого знакомился с нашими первыми результатами и вот что мне продиктовал:
— Я знаю, что дети от 6 и до 26 очень любят классическую литературу. Но о своей этой любви не догадываются. «Зеленая лампа», уверен, поможет им понять как и прекрасных авторов, так самих себя.
XIV
Как полезно перечитывать статьи Бориса Аверина, когда готовишься к лекциям и урокам о «тайне смеющихся слов» Надежды Тэффи и Михаила Зощенко и, конечно, об Антоне Чехове и Антоше Чехонте.
В январе 2019-ого я отыскал первую публикацию рассказа «Детвора» в «Петербургской газете» от 20.01.1886-ого: ломкая бумага; от петербургского времени желто-зеленые четыре страницы политического, литературного, ежедневного издания. И вдруг некролог. Грустная-прегрустная, как будто даже музыка, заметка о похоронах герцога Ольденбургского. Она запала в сердце с ледяным звоном, когда я прочитал о том, что гроб с телом покойного прибыл «экстренным поездом на станцию Сергиево» и что затем, на пути в усыпальницу, «позади печальной колесницы следовали четыре эскадрона лейб-гвардии уланского полка с хором трубачей».
Да, «он ушел уже // В холодные подземные жилища», этот друг и собеседник читающих людей — Борис Валентинович Аверин, которого нужно вспоминать и вспоминать, чтобы через «настоящее <…> открывать в прошлом неведомые доселе области».
Коль больше пред людьми ты счастьем одарен!»
I
1974-ый год — так себе время, и всё же не только мрак. Румяный бородач, с которым я разговорился, возвращаясь из гостей, восторгался светлыми университетскими умами. Мне, студенту Герценовского, было интересно. И завидно. Новый декабрьский яркий снег накрывал привычную слякоть; а высокий, как сейчас помню, в красном шарфе собеседник был воодушевлен своей учебой. На факультете журналистики, громко ликовал мой спутник, волшебные лекции Аверина; да и он сам необыкновенный; нет, не Аверин-цев, просто: Аве-рин, еще есть потрясающий Маркович, и Аверин, Маркович, но Аверин…
Эти два имени превратились в одно: Марк Аверин. Я стал читать статьи Марковича и прислушиваться к рассказам об Аверине.
II
В июне 1985-ого у входа в Центральный лекторий сияла афиша: АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН. Она казалась приснившейся. Имя лектора: Борис Аверин. И почти как в БДТ шестидесятых: народу тьма, билетов, увы и ах…
Но билет (вот же чудо!) дарит едва знакомый праведник. Невероятно было и то, что в итоге Лекторий вместил потом клубившихся у входа людей. Была даже трансляция для тех, кому не повезло, как мне, оказаться в большом лекционном зале.
III
Человек на сцене рассказывал. Обо многом. О романе «В круге первом», о расходящихся как будто по воде кругах зла и кругах добра. Восхищенное внимание людей, ровный голос человека в светлом пиджаке, который говорил еще и о кругах ада у Данте, о Достоевском, о Толстом и вообще о жизни. Уверенное презрение к большевикам, к террору, к Ленину. Это поражало. Я потом мог дословно повторить всё, что было сказано. И часто повторял на уроках и лекциях.
IV
Разговор в 1997-ом году
— Ты знаешь, Маша выходит замуж за Бориса Аверина. Что ты слышал о нем? — сказала мне по телефону Лаура Александровна Виролайнен.
— Помню потрясающую лекцию о Солженицыне. Да, слышал много хорошего. От тех, кто с ним общается и пьет.
— Он пьет?
— Не уверен. Не знаю. Я зря это сказал. Он прекрасный человек. Я читал его статью о Мариенгофе, выразительную и остроумную. Он смел. Он умён.
— Да, я знаю, знаю.
V
С Машей Виролайнен мы дружны давно. Наши мамы возобновили знакомство в роддоме. И вот Петергоф, близ Гостилицкого шоссе квартира на первом этаже. Аверин дарит книги, изданные под его редакцией, сборники, где его статьи. Дарственные надписи на титульных листах подробные, комплиментарные и самоироничные: «от впадающего в детство автора послесловия». Борис Аверин гостеприимен, бодр. Он сама жизнь, внушающая надежду. Такое было впечатление, что у него «в запасе вечность».
Маша:
— Нам на двоих сто лет.
VI
Книги, Авериным подаренные, я демонстрировал коллегам, которые когда-то были его студентами. Мне внимали с восторгом, когда я выдавал что-нибудь такое:
— Сидим мы, значит, на кухне: ужин, то и сё— «и дельный разговор зашел» о Набокове. Если вообразить уроки для продвинутых школьников, то с чего именно начать? По мне так или с «Других берегов», или с двуязычной «Ласточки», а он считает, что начало—это непременно «Машенька». И тут вдруг, —это я всё перед коллегами хвастаюсь знакомством, —серый, как булыжник, кот Томас старается запрыгнуть на плиту, а Борис его, летящего, хватает за шкуру.
VII
Да, мы были на ты и обращались друг к другу без отчеств. Но я не его близкий друг, конечно. Впрочем, приглашали в гости. Поэтому разговоры какие-то случались. Сейчас их вспоминаю.
— Я сам учитель. Я всегда говорю: я учитель литературы. В такси или при встрече с новым человеком. Я для учителя сделаю всё, — говорил он во время возлияний в Машиной квартире, той, что с видом на Неву. — Если ты учитель, то тогда всё для тебя сделаю.
Потом мы вышли в апрельский сумрак (слабый речной ветр, прохлада) на Большеохтинский, чтобы поймать машину. Но прежде Аверин убедил меня завернуть в стеклянную кофейню, где вместо ежедневной страшной музыки — еле слышный Моцарт. Ночь, кофе, музыка, Аверин, разговор о Толстом. Он рассказывал мне о «Детстве», «Отрочестве», «Юности» то, до чего я сам никогда бы не додумался. Я был поражен его наблюдениями, невероятно полезными для учителя. Затем он категорически строго, даже сердито, заплатил таксисту за мой проезд. И, улыбаясь, помахал вслед. Такой не то чтобы молодой Борис Аверин, сколько худой, заостренный, в темной курточке.
И это было больше двадцати лет назад.
VIII
У нас в ФТШ (в Алферовской физтехшколе) уважают академика Сахарова. В библиотеке его большой портрет. И у директора в офисе фотографии Андрея Дмитриевича, книги с дарственными надписями. Ежегодно проходят международные Сахаровские чтения для старшеклассников. На этой конференции была когда-то филологическая секция. Работа жюри основательно (по тем временам: конец 90-х) оплачивалась. Так что для Бориса Валентиновича и Маши (иногда с ним присоединялась Ольга Муравьева, а чаще — Наталья Шварц) это мероприятие было явно полезным.
Доклады на филологической секции редко оказывались самостоятельными. Впрочем, иногда школьники понимали то, что произносят. Даже намек на мысль заинтересовывал Бориса. Он воодушевлялся, расспрашивал о круге чтения, о планах на будущее. Аверин был благосклонен к провинциальным детям (Кемерово, Саров). На тех, кто из столичных школ, смотрел, может, чуть строже. Однажды мой ученик Петя Багров (сейчас заметный историк кино) выступил с докладом. Зачитал письма, полученные его прадедом: одно от Блока, другое от Булгакова. На доклад принес и копии этих уникальных текстов.
Аверин (с готовностью). Где же оригиналы? Я опубликую.
Петя (с чистосердечным сожалением). Этим сейчас занимается Гордин. Он опубликует и прокомментирует.
***
О мистификации мы сообщили на следующий день. Реакция была благодушной. Со смехом.
— Ну, обманули Аверина, ну обманули. Да и ладно…
IX
Потом я работал над диссертацией в ИРЛИ. Мой учитель Сергей Фомичев и Борис Аверин — люди одного поколения и близких взглядов на жизнь. При мне восхищенно отзывались друг о друге.
1
Фомичев (восторженно). Боря — лучший лектор среди нас. И вообще (долгая пауза) он, это самое, лучший среди нас!
2
Я (Борису). Тринадцатый аспирант Фомичева — это я. Он познакомил меня с двенадцатым, который чуть ли не полтора десятка лет писал диссертацию. Так вот двенадцатый мне сказал: «Не хотел расставаться с Сергеем Александровичем».
Аверин. Ах, как я его понимаю!..
X
Никогда так не везло в жизни, как с защитой. Знакомые филологи из ИРЛИ и СПбГУ сочувствовали. Помогали. Чем, кроме консультации и профессиональных рекомендаций, могут академические люди помочь учителю, который, чтоб на время забыть о школе, не умещающейся, грохоча, в черепе, решил перевести дух за сочинением диссертации? Чем? Советами по тому, как вообще диссертация оформляется; помощью по преодолению и обходу бюрократических засад.
«Отзыв ведущей организации»! Да чтоб я раньше знал, что это за организация такая, ведущая, и как от неё добиваться отзыва! Вот Борис Валентинович Аверин и написал от организации (кафедра истории русской литературы филфака СПбГУ) и от себя лестный для меня отзыв, пришел на мою защиту, высказывался, активно симпатизировал.
XI
Когда работал над диссертацией, жил на углу Мойки и Волынского. Аверину было по пути заглянуть ко мне и отдохнуть: вздремнуть, просто полежать на диване, перекусить — перед семинаром. Однажды он поскользнулся на мокром граните, упал. Пришел в песке, соли, грязи. Удалось под ту ситуацию подарить ему, как сейчас помню, темно-зеленый плащ.
Итак, он заходил, чтоб отдохнуть в пути. Беседовали о разном; показывал ему моей фрагменты моей работы. Помню его реплики:
— Это уже было сказано… А тут неубедительно… А это новое… Насколько я знаю, до тебя никто…
Помню, у меня он листал номера «Русской мысли» за 1898-ой год. Интонации узнавания, как если бы он разглядывал список однокурсников: не то чтобы друзей, но полузабытых приятелей молодости, с которыми отношения были в основном хорошие, но разные. Боже мой, Гольцев! Эртель, Орест Федорович Миллер, Спасович, Николай Иванович Стороженко — шекспировед, Головачев, Николай Иванович Кареев, Португалов, Саблин…
XII
Звонок днем или на ночь глядя уже:
— Володя, завтра сможешь заменить меня? Я буду тебе должен сковородку с грибами! Две сковородки с грибами и бутылку водки.
Сейчас понимаю, что нас было немало «избранных счастливцев праздных», готовых заменить прекрасного Аверина, когда он заболевал или уезжал куда-нибудь.
Я читал лекции на физфаке (факультатив) раз пять, наверное, и три раза на филфаке. В самом начале народ слегка роптал: кто мол тут вместо Бориса Валентиновича нашего!
Но потом ничего так; были довольны. Особенно на физфаке:
— Натаныч, физики тебя ценят!
И это лестно. Лестно, что есть вроде как общие студенты. Физики из Петергофа потом приезжали ко мне, чтоб забрать излишек моих книг, вообще пообщаться. Я, как музейный гид, показывал им диван, на котором Аверин «еще вчера отдыхал перед семинаром».
XIII
Впоследствии бывали беседы, в основном в Сергиево. Мы сходились с ним во взглядах на то, что главное качество школьного учителя — быть хорошим рассказчиком, что для современного студента начитанность важнее теоретических знаний, что Высоцкий (драма), Окуджава (лирика), Галич (эпос) — подходящая схема для того, чтоб оживить введение в литературоведение, что липовые планы и фантастические отчеты составлять нельзя (вредно для здоровья). Он растолковывал мне без затей то главное, что надо знать о биографическом методе, о социологическом, о компаративизме; убеждал в том, что Толстого в конце жизни облаивали так же, как сейчас Солженицына; соглашался с тем, что сквернословие даже в малых дозах, кто что ни говори, есть гадкая речевая ветошь.
XIV
Два года уже я в международном проекте. Его участники из Петербурга, Бостона и Киева создают литературный подкаст для взрослых и детей. Он называется «Зеленая лампа». Борис Валентинович Аверин в августе 2018-ого знакомился с нашими первыми результатами и вот что мне продиктовал:
— Я знаю, что дети от 6 и до 26 очень любят классическую литературу. Но о своей этой любви не догадываются. «Зеленая лампа», уверен, поможет им понять как и прекрасных авторов, так самих себя.
XIV
Как полезно перечитывать статьи Бориса Аверина, когда готовишься к лекциям и урокам о «тайне смеющихся слов» Надежды Тэффи и Михаила Зощенко и, конечно, об Антоне Чехове и Антоше Чехонте.
В январе 2019-ого я отыскал первую публикацию рассказа «Детвора» в «Петербургской газете» от 20.01.1886-ого: ломкая бумага; от петербургского времени желто-зеленые четыре страницы политического, литературного, ежедневного издания. И вдруг некролог. Грустная-прегрустная, как будто даже музыка, заметка о похоронах герцога Ольденбургского. Она запала в сердце с ледяным звоном, когда я прочитал о том, что гроб с телом покойного прибыл «экстренным поездом на станцию Сергиево» и что затем, на пути в усыпальницу, «позади печальной колесницы следовали четыре эскадрона лейб-гвардии уланского полка с хором трубачей».
Да, «он ушел уже // В холодные подземные жилища», этот друг и собеседник читающих людей — Борис Валентинович Аверин, которого нужно вспоминать и вспоминать, чтобы через «настоящее <…> открывать в прошлом неведомые доселе области».
Владимир Шпаков
«Собачья» экспертиза
Мою знакомую однажды обвинили в клевете. Этот порок был ей не свойственен, прекрасной души человек, разве что бывала излишне горяча в отстаивании правды. Вот и в основе данной истории лежала правда об одном собачьем питомнике, где продавали щенков элитных пород. Точнее сказать — за очень большие деньги продавали больных и зараженных инфекциями щенков, что негуманно по отношению как к четвероногим друзьям, так и к их хозяевам. Но если большинство приобретателей щенков предъявляли претензии в частном порядке, то знакомая, третий месяц безуспешно лечившая своего бультерьера, предала гласности вопиющие нарушения, вбросив информацию в Интернет. Тут-то лукавое и жестокосердное руководство питомника и вчинило иск за клевету, оскорбление чести, достоинства, а также за порушенную репутацию, повлекшую серьезный материальный ущерб Сумма иска была с пятью, кажется, нулями, то есть — совершенно неподъемная. И надо было, кровь из носу, доказать беспристрастным судьям (а дело пошло в административный суд) отсутствие состава вменяемого преступления.
Подвергнув тщательному исследованию распечатку вывешенных постов, я с облегчением высказал мнение:
— Кажется, тебе повезло. То есть, хватило ума свои справедливые — безусловно! — обвинения высказать в обтекаемой форме. Вот здесь, например, ты пишешь: «как мне представляется». Вот еще: «возможно, дело обстоит именно так». А это вообще убойный оборот: «не исключено, что мое мнение ошибочно». В общем, окопалась, тут ведь ежу понятно, что прямые обвинения отсутствуют.
— Мне юрист то же самое сказал. Но все это, говорит, надо оформить в виде лингвистической экспертизы. И заверить у какого-нибудь авторитетного филолога. Ты заверишь?
— Я бы со всей душой. Но я, строго говоря, по другому ведомству.
— А кто из твоих знакомых может заверить?
Тут-то я и вспомнил про Бориса Валентиновича. Более авторитетного филолога в моем окружении не имелось, да и человек он отзывчивый, думал я, наверняка не отмахнется от попавшей в беду приятельницы.
Встреча состоялась в кафе у Балтийского вокзала. Подготовленный черновик экспертизы профессор просмотрел бегло, сказав, что полностью доверяет моему языковому чутью и все, что надо — подпишет. После чего подозвал официантку, попросил меню и протянул его знакомой:
— Выбирайте, здесь неплохо кормят.
Мы сделали заказ, разумеется, включив в него графин русского национального напитка. Разговор довольно быстро сместился от генеральной темы — к современной литературе, коей моя знакомая живо интересовалась. Когда уговорили второй графин, и пришла пора рассчитываться, она достала из сумочки деньги:
— Так, я за всех плачу!
Она с самого начала настаивала, мол, «поляна» с меня, я ведь серьезного человека от дел отрываю! Профессор в недоумении поднял бровь.
— Уважаемая! С вами за столом находятся два джентльмена, один постарше, другой помладше. Вопрос: кто должен платить?
— Тот, кто младше, — сказал я и полез за бумажником.
— Ответ неправильный. Платит всегда старший джентльмен. И на этом дискуссия окончена.
На следующий день опять договорились о встрече, поскольку подпись профессора должен был, в свою очередь, заверить нотариус. Когда я подъехал на машине к дому в Володарском, Борис Валентинович вышел, прихрамывая. В чем дело? Ерунда, махнул рукой профессор, поскользнулся утром на крыльце и слегка ступню подвернул. У него были дела в питерском центре, и мы решили по пути заехать в одну из нотариальных контор и произвести вышеуказанную операцию.
Казалось бы, чего проще — заверить подпись авторитетного и уважаемого в своей среде профессионала? А не тут-то было! В первой нотариальной конторе нас долго держали в очереди, знакомясь с документом, затем пригласили на разговор. И вежливо сообщили, дескать, подобных прецедентов в их практике не было, а посему они воздержатся от того, чтобы заверить документ. Знакомая занервничала, но тут же получила совет обратиться в другую контору, возможно, они такие экспертизы уже заверяли.
— Что ж, едем дальше, — высказался профессор, — Если дело начато — доведем его до логического конца!
После чего похромал к выходу. Учитывая его состояние, в следующую контору мы Бориса Валентиновича не потащили, оставили в машине. И правильно сделали, поскольку нотариуса на месте не оказалось, а его помощница при виде нашей «собачьей» экспертизы даже в лице изменилась. Нет-нет-нет! Брать на себя такую ответственность?! Не могу и не хочу!
В третьей конторе мы обнаружили запертую дверь. Судя по расписанию работы на табличке справа, это был разгар рабочего дня, но на мой настойчивый стук никто не отзывался. Лишь когда я заглянул в закопченное окно, за стеклом возникла небритая и явно неприветливая физиономия.
— Какая, на хрен, контора?! — донесся приглушенный голос, — Здесь давно уже склад стройматериалов!
Ситуация складывалась удручающая. Мы ездили от одного нотариуса к другому, через раз натыкаясь на запертые двери. Если же двери были открыты, нам отказывали под тем же предлогом отсутствия аналогичной ситуации в их нотариальной практике. Не сработала даже взятка, которую вознамерилась дать одному из нотариусов моя знакомая. Еще бы — это ведь золотая жила, нотариат, не дай бог лишат лицензии!
Между тем подступало время дел, которые должен был решить Борис Валентинович. После очередного фиаско мы постановили отпустить профессора — сколько можно мучать уважаемого человека? Но он отпускаться не захотел и в последнюю в списке контору направился с нами.
— Молодежь, ничего вам доверить нельзя… — говорил, прихрамывая еще сильнее, — Вот сейчас зайдем — и все сделаем!
Нотариус, статная суровая дама, поначалу взялась нас отчитывать, мол, обращаемся с какими-то абсурдными просьбами! Уткнувшись в документ, она раздраженно перелистывала страницы и даже не изволила поднять голову.
— Чья тут подпись? Аверина?!
Мы закивали. Глаза дамы наконец-то обратились к нам и за нашими спинами разглядели лицо профессора. Негодование внезапно сменилось удивлением, затем — искренней радостью.
— Борис Валентинович?! Это вы?!
— В общем, да. Это я, — скромно произнес Аверин, явно не готовый к такой реакции.
— А я вас вчера по телевизору видела! Я же все ваши передачи смотрю — очень познавательно, очень! Я ведь сама из Петергофа, а вы так интересно о нем рассказываете!
Пока на профессора изливали елей, о нашем с приятельницей присутствии на время забыли. Но вскоре на нас опять обратили укоризненный взор.
— Что же вы не сказали, что надо заверить подпись профессора Аверина?!
— Но там ведь и так все…
— Ладно, покиньте кабинет. А мы с Борисом Валентиновичем останемся и все решим.
Разговор за закрытой дверью длился минут десять, не меньше. Наконец, дверь распахнулась, и оттуда показался Аверин, победно помахивая заверенной экспертизой. Выйдя на улицу, он задумался, затем сказал:
— По-моему, это слава.
— Еще бы! — подтвердил я, — Если тебя узнают незнакомые люди, да еще идут навстречу…
— Что ж, такое событие надо отметить.
— Но у вас ведь дела!
Профессор посмотрел на часы.
— Кажется, я везде опоздал. А тогда — идем в ближайшее кафе!
Спустя несколько дней выяснилось, что на стопе у Аверина была трещина, ставшая следствием полученной травмы. Шла даже речь о том, чтобы наложить гипс, но от этого Борис Валентинович отказался. Моя знакомая купила книгу Аверина «Дар Мнемозины», хотела подписать ее у автора, но больше им встретиться, к сожалению, не удалось.
Подвергнув тщательному исследованию распечатку вывешенных постов, я с облегчением высказал мнение:
— Кажется, тебе повезло. То есть, хватило ума свои справедливые — безусловно! — обвинения высказать в обтекаемой форме. Вот здесь, например, ты пишешь: «как мне представляется». Вот еще: «возможно, дело обстоит именно так». А это вообще убойный оборот: «не исключено, что мое мнение ошибочно». В общем, окопалась, тут ведь ежу понятно, что прямые обвинения отсутствуют.
— Мне юрист то же самое сказал. Но все это, говорит, надо оформить в виде лингвистической экспертизы. И заверить у какого-нибудь авторитетного филолога. Ты заверишь?
— Я бы со всей душой. Но я, строго говоря, по другому ведомству.
— А кто из твоих знакомых может заверить?
Тут-то я и вспомнил про Бориса Валентиновича. Более авторитетного филолога в моем окружении не имелось, да и человек он отзывчивый, думал я, наверняка не отмахнется от попавшей в беду приятельницы.
Встреча состоялась в кафе у Балтийского вокзала. Подготовленный черновик экспертизы профессор просмотрел бегло, сказав, что полностью доверяет моему языковому чутью и все, что надо — подпишет. После чего подозвал официантку, попросил меню и протянул его знакомой:
— Выбирайте, здесь неплохо кормят.
Мы сделали заказ, разумеется, включив в него графин русского национального напитка. Разговор довольно быстро сместился от генеральной темы — к современной литературе, коей моя знакомая живо интересовалась. Когда уговорили второй графин, и пришла пора рассчитываться, она достала из сумочки деньги:
— Так, я за всех плачу!
Она с самого начала настаивала, мол, «поляна» с меня, я ведь серьезного человека от дел отрываю! Профессор в недоумении поднял бровь.
— Уважаемая! С вами за столом находятся два джентльмена, один постарше, другой помладше. Вопрос: кто должен платить?
— Тот, кто младше, — сказал я и полез за бумажником.
— Ответ неправильный. Платит всегда старший джентльмен. И на этом дискуссия окончена.
На следующий день опять договорились о встрече, поскольку подпись профессора должен был, в свою очередь, заверить нотариус. Когда я подъехал на машине к дому в Володарском, Борис Валентинович вышел, прихрамывая. В чем дело? Ерунда, махнул рукой профессор, поскользнулся утром на крыльце и слегка ступню подвернул. У него были дела в питерском центре, и мы решили по пути заехать в одну из нотариальных контор и произвести вышеуказанную операцию.
Казалось бы, чего проще — заверить подпись авторитетного и уважаемого в своей среде профессионала? А не тут-то было! В первой нотариальной конторе нас долго держали в очереди, знакомясь с документом, затем пригласили на разговор. И вежливо сообщили, дескать, подобных прецедентов в их практике не было, а посему они воздержатся от того, чтобы заверить документ. Знакомая занервничала, но тут же получила совет обратиться в другую контору, возможно, они такие экспертизы уже заверяли.
— Что ж, едем дальше, — высказался профессор, — Если дело начато — доведем его до логического конца!
После чего похромал к выходу. Учитывая его состояние, в следующую контору мы Бориса Валентиновича не потащили, оставили в машине. И правильно сделали, поскольку нотариуса на месте не оказалось, а его помощница при виде нашей «собачьей» экспертизы даже в лице изменилась. Нет-нет-нет! Брать на себя такую ответственность?! Не могу и не хочу!
В третьей конторе мы обнаружили запертую дверь. Судя по расписанию работы на табличке справа, это был разгар рабочего дня, но на мой настойчивый стук никто не отзывался. Лишь когда я заглянул в закопченное окно, за стеклом возникла небритая и явно неприветливая физиономия.
— Какая, на хрен, контора?! — донесся приглушенный голос, — Здесь давно уже склад стройматериалов!
Ситуация складывалась удручающая. Мы ездили от одного нотариуса к другому, через раз натыкаясь на запертые двери. Если же двери были открыты, нам отказывали под тем же предлогом отсутствия аналогичной ситуации в их нотариальной практике. Не сработала даже взятка, которую вознамерилась дать одному из нотариусов моя знакомая. Еще бы — это ведь золотая жила, нотариат, не дай бог лишат лицензии!
Между тем подступало время дел, которые должен был решить Борис Валентинович. После очередного фиаско мы постановили отпустить профессора — сколько можно мучать уважаемого человека? Но он отпускаться не захотел и в последнюю в списке контору направился с нами.
— Молодежь, ничего вам доверить нельзя… — говорил, прихрамывая еще сильнее, — Вот сейчас зайдем — и все сделаем!
Нотариус, статная суровая дама, поначалу взялась нас отчитывать, мол, обращаемся с какими-то абсурдными просьбами! Уткнувшись в документ, она раздраженно перелистывала страницы и даже не изволила поднять голову.
— Чья тут подпись? Аверина?!
Мы закивали. Глаза дамы наконец-то обратились к нам и за нашими спинами разглядели лицо профессора. Негодование внезапно сменилось удивлением, затем — искренней радостью.
— Борис Валентинович?! Это вы?!
— В общем, да. Это я, — скромно произнес Аверин, явно не готовый к такой реакции.
— А я вас вчера по телевизору видела! Я же все ваши передачи смотрю — очень познавательно, очень! Я ведь сама из Петергофа, а вы так интересно о нем рассказываете!
Пока на профессора изливали елей, о нашем с приятельницей присутствии на время забыли. Но вскоре на нас опять обратили укоризненный взор.
— Что же вы не сказали, что надо заверить подпись профессора Аверина?!
— Но там ведь и так все…
— Ладно, покиньте кабинет. А мы с Борисом Валентиновичем останемся и все решим.
Разговор за закрытой дверью длился минут десять, не меньше. Наконец, дверь распахнулась, и оттуда показался Аверин, победно помахивая заверенной экспертизой. Выйдя на улицу, он задумался, затем сказал:
— По-моему, это слава.
— Еще бы! — подтвердил я, — Если тебя узнают незнакомые люди, да еще идут навстречу…
— Что ж, такое событие надо отметить.
— Но у вас ведь дела!
Профессор посмотрел на часы.
— Кажется, я везде опоздал. А тогда — идем в ближайшее кафе!
Спустя несколько дней выяснилось, что на стопе у Аверина была трещина, ставшая следствием полученной травмы. Шла даже речь о том, чтобы наложить гипс, но от этого Борис Валентинович отказался. Моя знакомая купила книгу Аверина «Дар Мнемозины», хотела подписать ее у автора, но больше им встретиться, к сожалению, не удалось.