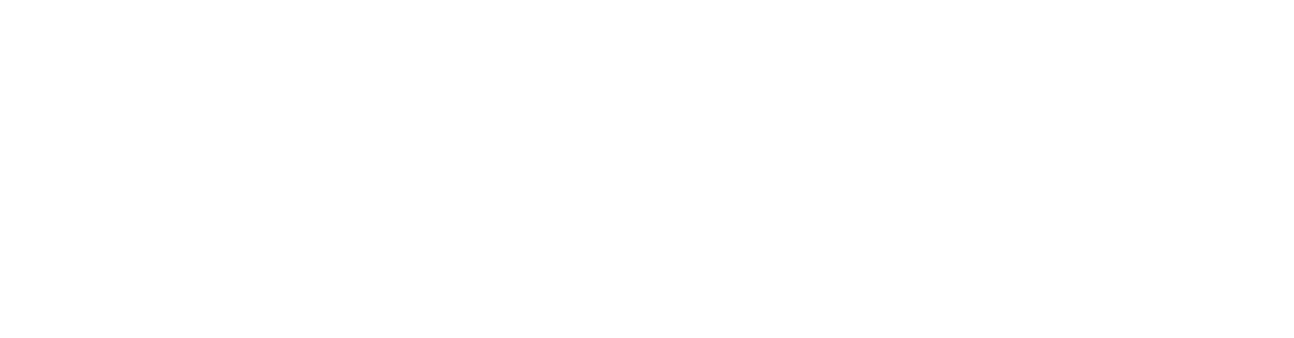Интервью
Интервью Вадиму Левенталю «Борис Аверин: "Если я попаду в рай, я буду там собирать грибы..."»
Борис Валентинович Аверин – литературовед, доктор филологических наук, профессор СПбГУ, автор монографий и сотен публикаций по самым разным проблемам, в сфере его интересов – Серебряный век, творчество Толстого, Бунина, Набокова, современная литература. Автор и ведущий циклов телепередач «Мистика любви», «Парадоксы истории», «Неизвестный Петергоф» и других. Весной вышла в свет его новая книга – «От Толстого до Набокова: Из истории русской литературы». «Время культуры» поговорило с Борисом Валентиновичем о том, что он считает самым главным в своей работе и в жизни.
Вадим Левенталь: Борис Валентинович, вы в своей жизни взяли бесчисленное количество интервью. Своих героев вы всегда выбирали сами? В редакциях принято считать, что интервью интересно, только если оно с каким-то медийным человеком, звездой, но у вас ведь далеко не всегда так было.
Б.А.: Я всегда выбирал сам, но о медийности никогда специально не думал. Когда-то я на телеканале «Культура» предложил двенадцать или шестнадцать серий под названием «Петербургские интеллигенты»; героями должно были стать люди невероятно интересные и в своем кругу - среди филологов, математиков, физиков, биологов - очень знаменитые, но на экранах они не бывают и на улицах их не узнают. Одна из самых интересных передач получилась о химике Анне Алексеевне Карцовой, и после этой передачи пришли отзывы из всех столиц мира с благодарностями – потому что за тридцать лет преподавания ее ученики распространились по всему миру. Другое прекрасное интервью получилось с профессором биологии, который рассказывал мне, как изобретаются антибиотики, про мух, которые живут в помойке среди болезнетворных бактерий, а им все нипочем, и про попытки вытащить из них эти антитела, чтобы помочь людям. Заканчивалось, правда, это интервью на пессимистической ноте, потому что прежде чем лекарство можно будет распространять, его нужно испытывать семь лет, а за это время любой вирус мутирует, и, значит, лекарство нужно изобретать заново.
В.Л.: Кто вас как интервьюера интересует?
Б.А.: Любой профессионал. Но говорить с ним вовсе не обязательно о его работе. Вот я прочел мемуарную книгу Басилашвили, а он там пишет, что немцы выстрелили торпедой по Кремлю и убили драматурга Афиногенова – откуда торпеда? Почему Афиногенова? Беру энциклопедию – точно: убит при бомбежке Москвы. И когда я с Басилашвили разговаривал, он мне подтвердил, что все так и было, только не торпеда, конечно, это в издательстве напутали, а ракета. Немцы целились в ЦК – ну, кого они там из членов ЦК убили, никого не интересует, а драматурга жалко. Басилашвили – свидетель этой истории, он жил рядом с Кремлем. Были передачи с Сокуровым, с Петкевич, Граниным, Ястребенецким… Все эти люди во многом сохранили тот язык, который у нас был на переходе от девятнадцатого века к двадцатому, они немного иначе говорят. Мне бесконечно интересен Гранин – он пережил фантастическую эволюцию. Гранин никогда не говорил неправду, но кое о чем умалчивал, а сейчас – всю правду. И при этом становится все моложе, красивее и бодрее. Он интересуется современной литературой, философией, ему интересно, что думают молодые люди – искренне интересно.
В.Л.: Получается, вас больше интересуют пожилые люди? В чем тут дело? В близости, пусть и относительной, смерти?
Б.А.: Да, перед людьми, которым девяносто и за девяносто, я просто благоговею. Молодой человек либо совсем не думает о смерти, либо думает о ней в трагическом аспекте. Он не думает о ней как о радости, как о преображении – этого нет, смерть вызывает у него ужас. А здесь отношение к смерти совсем другое. Даниил Александрович это состояние переживал раза четыре, Тамара Владиславовна Петкевич тоже была на грани много раз, ну и я тоже частично пребывал в этом забавном состоянии – очень полезно для человека. Конечно, начинаешь смотреть на жизнь иначе. Толстой говорил: если собираешься совершить поступок, представь себе, что вечером умрешь – безошибочно выберешь, что нужно сделать. Молодой человек должен быть нацелен в будущее, на созидание. А пожилой должен уклониться от деяния, потому что всякое деяние есть зло, любое. Это не я сказал. Мы не можем знать последствия наших поступков. Шеллинг говорит: субъективное – это наши поступки, а объективное – это их непредсказуемые результаты. Всякий поступок это ядерная реакция, сто тысяч осколков, и какой из них станет определяющим, нам не известно. Поэтому пожилой человек знает, что недеяние лучше. И это самое трудное. Недавно Гранин рассказывал мне, как ему понравилась статья Секацкого в «Новом мире» - а в этой статье Секацкий как раз открывает для себя недеяние. Для молодого человека недеяние немыслимо, все нацелено на деятельность – и это правильно. А что касается смерти – то это идеал недеяния. Здесь, с этой стороны, после смерти любой человек превращается в миф, короткий ли, долгий ли, а что будет там – что будет сниться в смертном сне, не знает никто. Набоков считал, что после смерти я превращаюсь в огромный глаз и вижу во все концы света. Это хорошая формула. У каждого рай – это то лучшее, что было в жизни. Я, например, точно знаю, что если я попаду в рай, я буду там собирать грибы.
В.Л..: Вы поэтому перебрались поближе к лесам?
Б.А.: Я всегда жил в Петергофе, а мой нынешний адрес, поселок Володарка, улица Пролетарская – это самая великая насмешка, которую совершила надо мной жизнь. Я до десятого класса никогда не был сыт, одет, а теперь… Толстой в конце жизни ушел из имения, а я оказался в самом настоящем имении.
В.Л.: А если говорить о начале, как получилось, что вы выбрали филологию?
Б.А.: Я ничего не выбирал никогда, все решалось само собой. Кроме одного раза. По первой специальности я был геофизиком. Страсть к путешествиям, охота к перемене мест – кто меня понимает, так это Битов, мы всю жизнь путешествуем, только бы путешествовать. Я работал в Арктическом институте, Антарктида меня не интересовала, но я мечтал о кругосветном путешествии: садишься здесь, практически на Северном полюсе, и спускаешься на Южный… В какой-то момент новый директор устроил переаттестацию, вызвал меня и говорит: вот вы, мол, заведуете отделом, а сами учитесь на филологическом факультете на заочном, почему? Я сказал, что люблю изучать языки. Тогда он предложил мне: давайте, говорит, вы поедете в Женеву, там есть международный метеорологический центр, а в нем от нас работает человек, который не то что по-француски или по-английски – он по-русски-то два слова связать не может. У меня уже были оформлены документы в Антарктиду, но Женева для советского человека – это даже не соцлагерь, в который и то было сложно попасть… Я согласился. И вдруг меня вызывает заведующий кафедрой истории русской литературы ЛГУ Георгий ПантелеймоновичМакогоненко и сообщает, что договорился с заведующим ИРЛИ, и меня возьмут в аспирантуру. Я прихожу в назначенное время в Пушкинский дом, хожу по нему, а он так сильно напоминает мой Арктический институт, и вот я думаю – что я буду менять один институт на другой, лучше поеду-ка я в Женеву. Подождал лишние полчаса, директорвсе был занят – и ушел, отказался от аспирантуры. Я даже прошел медицинское освидетельствование, и даже обком партии на эту командировку – проходил его, кстати, вместе с Хилем, он тогда ехал петь в Японию, так что мы с ним вместе отвечали на все эти идиотские вопросы. И вдруг звонок от Макогоненко: такого-то профессора позвали преподавать в Америку, у нас освободились полставки ассистента, и хотя никаких надежд остаться потом на кафедре нет, потому что профессор вернется, я вам все же предлагаю это место. И я не думая говорю – иду. И вся Антарктика и вся Женева полетели к чертовой матери. Я ни секунды не раздумывал, не колебался.
В.Л.: Значит ли это, что мир потерял физика Аверина?
Б.А.: Нет. Я занимался геофизическими науками с огромным удовольствием до третьего курса. А потом я понял, что одна геофизическая наука никакого отношения к другой не имеет. То есть сейсмология, гидрология, аэрология, озонометрия - они никак не связаны. Единой картины мира нет. Здесь каждая наука в самой себе, каждую я знаю, одну хуже, другую лучше, но возможности соединить их вместе нет. Если вы спросите, как возник земной шар, то любой биолог, физик скажет, что он не может возникнуть по тем теориям, которые существуют – большого взрыва и так далее. Это все пустое, еще наивнее, чем Зевс. Чистая мифология, причем для нормального сознания человека, занимающегося физическими науками, невозможная – не может возникнуть жизнь, где все должно развиться – из чего? Из одной бактерии! – одной бактерии не существует, только в сообществе. А как это сообщество возникло? Да никак. Объяснения нет, общей картины мира нет. Как-то я вернулся с зимовки и купил билет книжной лотереи. Выиграл пять рублей – бешеные деньги! – но не деньгами, а книгами. Я приобрел Бунина и Платонова. А ни того, ни другого я до тех пор не читал. Я был потрясен. Платоновым я начал заниматься в октябре, а в марте опомнился, что не помню зимы, не помню Нового года, начала весны – такая это была увлеченность: библиотеки, архивы... Я хотел понять: что он имеет в виду? «Цветок на Земле» - я до сих пор ничего не понимаю, что он хочет сказать. Это потрясающе интересно. Или «Фро»: «Фашистка она, что ли? Как же я зачал ее от жены? Не помню!» И потом он говорит дочери: «Тебе до мещанки еще долго жить и учиться нужно: те хорошие женщины были». И после этого «он открыл дверку духового шкафа, спрятал туда голову и там заплакал над сковородкой с макаронами». Это поражало. А Бунин - это вообще ни в какие ворота. Мне никакое литературоведение было не интересно, я хотел для себя понять, что же все-таки это такое. Оказалось, если в физике общей картины мира нет, то литература - это философия, социология, психология, искусство – это все вместе. Так оно и продолжилось: курсовая работа у меня была о Платонове, а диплом о Бунине.
В.Л.: А с чего началось увлечение Набоковым?
Б.А.: В 1980 году мне принесли перепечатку романа «Приглашение на казнь», машинопись. У меня был друг физик, потрясающий книгочей, у него была болезнь сердца, и его перед операцией отпустили домой. Я, восхищенный, несу ему эту папку, он смотрит на название и говорит: да, очень своевременная книга. Через месяц, после операции на сердце, он умер. Набоков потряс нас всех. Это еще один писатель, который абсолютно непонятен. С Буниным – там хоть что-то ясно, и то в основном благодаря рукописям, а про Набокова я до сих пор не могу сказать, что все понимаю. Это, знаете, детское любопытство. Я в детстве любил бродить по лесам, по полям – и вот видишь еще одну тропинку, а куда она ведет, не знаешь. И всегда лучше идти по неизвестной дороге. Интересно, потому что непонятно.
В.Л.: Но вы интерпретируете тексты?
Б.А.: Да, конечно. Я сижу над текстом, думаю о нем, и вдруг мне открывается нечто, чего я никогда не видел. Вот я читаю «Приглашение на казнь», там герой оказывается перед дверью с надписью «канцелярия», а в другой раз идет, и первая буква отвалилась, получилось «анцелярия». Что это? А это просто алфавит от А до Я, а слово «казнь» исчезло». Потому что в основе бытия лежит алфавит. Но это не наука, а не более чем бесконечное любопытство человека, который хочет понять. Что хочет понять? А то, есть ли в жизни закономерность. Какой-нибудь глупый Маркс, которого мне бесконечно жалко, говорит, что есть законы истории. Но таких законов нет. В каждой точке есть набор возможностей. Вот точка, и есть 128 возможностей, а куда все пойдет, я не знаю. Это точка бифуркации. Закономерностей нет. Вы скажете, что вода закипает, и я скажу, что, да, закипает при температуре 100 градусов, но только если давление 760 мм, - а таких условий тысяча, все их учесть невозможно. Все эти системы – таблица умножения, таблица логарифмов, таблица Менделеева – весьма полезны, но на вопрос о смысле бытия точные науки не ответят никогда.
В.Л.: Бродский говорил, что мы хотя бы знаем, чем все это заканчивается…
Б.А.: Закономерности существует в разуме человека, мы задаем их миру, а какие они там у самого мира, никто не знает, даже не догадывается. И не нужно. То есть догадываться-то – хорошо и интересно, но все равно ничего не получится. Нет закономерностей, а есть набор возможностей, и зависит он от нравственности. Если бы Татьяна Ларина изменила мужу – мир бы рухнул. Вот абсолютный стержень: я другому отдана и буду век ему верна – все, это абсолютный выбор. Белинский этого не понимает: она, мол, идет за мнением света…
В.Л.: Это религиозная картина мира?
Б.А.: Не совсем. Религия, к сожалению, настолько срослась с церковью, а церковь настолько срослась с государством, что отделить одно от другого уже невозможно. И в этом смысле я толстовец. То, что было в христианстве, в церкви и государстве во многом утратилось. Священник вас благословляет на убийство, вы приносите присягу… А как же «не убий», «не клянись»? Это что, христианство? Даже близко не пахнет. Мы из религии делаем политику – и в этом трагедия.
В.Л.: А почему филология, а не история?
Б.А.: Я всю жизнь занимался историей. Смотрите: в Стрельне было сделано 3,5 миллиона кирпичей. Часть из них пошла на Монплезир, а часть – на здание Двенадцати коллегий. Вот такие вещи меня интересуют. Этим летом я вел экскурсию для детей по Петергофу и раздал им открытки с «Самсоном». На одной написано: «Самсон» – и больше ничего. На другой: «Самсон», скульптор Козловский – и больше ничего. Но «Самсона» создал Растрелли, и только потом в 1801 году скульптуру сняли, новую сделал Козловский, а ту, что стоит сейчас, создал Симонов. Что написать на открытке? Неизвестно. Есть три «Самсона» – и мне интересны все три. Козловский снял львиную шкуру с плеча – это мы знаем. А какой это Самсон – библейский или мифологический? Волосы короткие – значит, не библейский. Но лев-то есть, так что может быть и библейский… Один историк рассказывал мне, кстати, про Самсона и про львов. Мы-то думаем, что это что-то невероятное – разорвать пасть льву, а на самом деле тогда на территории Иудеи водились львы значительно меньшего размера, чем африканские.
В.Л.: А в истории есть смысл? В чем отличие в изучении истории и литературы?
Б.А.: История – это всегда деяние. А чтение литературного произведения – это игра в бисер: я разбираю нечто, что не имеет прямого отношения к жизни, но страшно интересно, - чистое недеяние. Как я трактую Обломова – это мои заботы. Для меня Обломов – это великий учитель, который становится учителем после смерти. При жизни мы его осуждаем: он ничего не делает. Но после смерти о нем все говорят: боже, какой был человек! Штольц, Осип, даже автор говорит. Он знал то, чего не знал никто, прожил, как ни странно, счастливую жизнь, хоть и страдал, учителем не был – но стал учителем после смерти. Ему было дано много способностей, а он ничего не осуществил, но – стал учителем. Это великое недеяние.
Когда становишься старше – ничего особенного не происходит. Но жить мне становится все интереснее. Что молодость – расцвет, а старость – угасание, – это абсолютная ошибка. Древние писали, что лучший возраст наступает после шестидесяти, а мой папа говорил, что даже после семидесяти. Есть только одно «но», говорил он, – нет ни одного человека, с которым я могу вспомнить молодость: война, пятнадцать лет лагерей – никого не осталось. А все остальное… Страстей, которые так любят молодые люди, в пожилом возрасте больше. И любовь к ближнему, и любовь к женщине – все это сильнее. Как у Ахматовой в стихотворении о любви зрелой женщины: крапива запахла, как роза, только сильней. Старость – это крапива, а молодость – роза, но крапива запахла, как роза. Только сильней. Я недавно был на дне рождения Григория Даниловича Ястребенецкого – ему исполнилось девяносто лет: красивый, преуспевающий, работающий – вот жизнь! А в восемнадцать лет все плохо – тоска, жизни нет. И невольно отдаешь предпочтение девяностолетнему. Просто до этого нужно дойти. Нет смысла говорить детям: будьте мудрыми, исповедуйте недеяние, – дети должны совершить все ошибки, а вот когда совершат, к семидесяти годам поумнеют. Им просто станет лучше жить. Отпадет суета, самолюбие, забота о карьере… Это гимн старости, но я с таким же удовольствием пропою и гимн молодости. Я редко вспоминаю свою молодость, но там тоже было много хорошего. Самое прекрасное – влюбленности. Но не то, что вы подумали, а такие влюбленности – совершенно никак не реализовавшиеся. Редчайшие моменты единения душ. Это не ваш секс, это Эрос. Абсолютное обаяние, абсолютная красота – такие состояния длятся всего несколько минут. Их не анализируешь, не фиксируешь, когда проживаешь, но потом они остаются в памяти как счастье, как золотой багаж, с которым можно прожить всю жизнь. Ничего не было, и не могло быть – но была божественная минута. А что касается любви, то любовь пожилого человека, конечно, гораздо сильнее. Она ни в чем не выражается, и ей не нужны отношения – это только состояние духа. «О как на склоне наших дней нежней мы любим и суеверней…» Потому что нет требований, нет присвоения – то самое незаинтересованное созерцание, о котором говорит Шопенгауэр. Молодости нужно все присвоить – мир, профессию, женщину... Эта девушка должна быть моей! Не твоя она. И не будет никогда твоей. Это бесполезное занятие. И только потом понимаешь, что это не нужно.
В.Л.: Чему вы учите своих студентов?
Б.А.: Да никого я ничему не учу. Я не знаю ничего такого, чему можно было бы научить. Ну что, я научу, что Толстой родился в 1828-ом году? Кому это нужно? Ну конечно, я это знаю, а они нет. Я даже знаю, в каком году родился Чехов – этого уж вообще никто не знает. Но чему учить – я не знаю. Вот я иду на лекцию, читаю текст и вдруг вижу в этом тексте что-то, чего я не видел никогда. Вот я читаю чеховскую «Дуэль» – с чего вдруг там Лаевский вспоминает Толстого? А вот почему: у него завтра дуэль, и его скорее всего убьют. Он думает, что было в его жизни, и оказывается, что ничего не было. Вот его завтра убьют – а ничего не было! И вдруг он вспоминает, что было детство, и была гроза, девочки испугались, все дети спрятались куда-то, прижались друг к другу – и девочки видели в нем опору. И он говорит: это было в моей жизни – в четырнадцать лет – а больше ничего, все остальное пустое. И вот после этого, когда он это вспомнил, ему страшно захотелось жить. Так причем Толстой? Когда Анна Каренина бросается под вагон – под первый она не успевает, и нужно дожидаться второго, – она кладет на себя крестное знамение, и вдруг вспоминает детство, юность, как это все было здорово. Зачем я это делаю? – спрашивает она, – но решение принято, уже середина вагона – и тут вдруг ярко вспыхивает свеча, которая освещает всю ее жизнь. И она бросается. Вот это Набоков называл рождением души. Что ужасного в ее жизни? В ней страсть и больше ничего. Страшная вещь, она охватывает многих людей и делает их несчастными. Здесь нужно увидеть, как прошел первый вагон, как идет второй, как вспыхивает жизнь, и она говорит себе «зачем я это делаю?» – вот и все, что я знаю. Они пропустили, а я прочитал. Об этом и рассказываю. А научить я ничему не могу.
В.Л.: Получается, вы учите частностям?
Б.А.: Да, точно, частностям. Я вот уже десять лет в аудитории зачитываю стихи Бунина:
Я к ней вошел в полночный час.
Она спала, – луна сияла
В ее окно, – и одеяла
Светился спущенный атлас.
Она лежала на спине,
Нагие раздвоивши груди, –
И тихо, как вода в сосуде,
Стояла жизнь ее во сне.
Я спрашиваю: что это значит? Можно было бы сказать, что это эротическое стихотворение, если бы не последние строчки. На них нужно обратить внимание, увидеть в них абсолютную правду и оставить без трактовки. Потому что когда я читаю трактовку и там написано, что Бунин тут демонстрирует пантеистическое восприятие жизни, мне хочется сказать – да бросьте вы дурака валять! Частности важнее. Общая интерпретация всегда умаляет сущность произведения. Конечно, я могу сказать, что «Анна Каренина» - это «Мне отмщение и Аз воздам», процитировать всех от Библии до Шопенгауэра, – ну, верно, ну и что? Ни черта не получается. Но когда Анна приезжает к Долли, дети бросаются ей на шею, и они играют, а после бала они к ней не подходят – почему? Дети понимают, что произошло что-то ужасное – а что дети в этом могут понимать? Или вот Стива говорит Левину: Долли сказала, что Кити будет твоей. О чем это он? Кити любит Вронского, он завтра сделает предложение – какая может быть у Левина надежда? Но Долли сказала, что она будет его женой, – и так и происходит. Потому что Долли кое-что в этом понимает.
В.Л.: Как же тогда поговорить с вами о существенном?
Б.А.: А чтобы поговорить со мной о существенном, это вам нужно пойти со мной в лес. И я вам буду говорить: вот это семицветник, а это манжетка, а это любка двулистная. Нужно все это пространство видеть как конкретику, так, как видит крестьянин. Он смотрит и видит, что ольха расцвела раньше черемухи – он знает, в чем дело. Существенна только конкретика, благодаря которой можно почувствовать благодать мира.
Вадим Левенталь: Борис Валентинович, вы в своей жизни взяли бесчисленное количество интервью. Своих героев вы всегда выбирали сами? В редакциях принято считать, что интервью интересно, только если оно с каким-то медийным человеком, звездой, но у вас ведь далеко не всегда так было.
Б.А.: Я всегда выбирал сам, но о медийности никогда специально не думал. Когда-то я на телеканале «Культура» предложил двенадцать или шестнадцать серий под названием «Петербургские интеллигенты»; героями должно были стать люди невероятно интересные и в своем кругу - среди филологов, математиков, физиков, биологов - очень знаменитые, но на экранах они не бывают и на улицах их не узнают. Одна из самых интересных передач получилась о химике Анне Алексеевне Карцовой, и после этой передачи пришли отзывы из всех столиц мира с благодарностями – потому что за тридцать лет преподавания ее ученики распространились по всему миру. Другое прекрасное интервью получилось с профессором биологии, который рассказывал мне, как изобретаются антибиотики, про мух, которые живут в помойке среди болезнетворных бактерий, а им все нипочем, и про попытки вытащить из них эти антитела, чтобы помочь людям. Заканчивалось, правда, это интервью на пессимистической ноте, потому что прежде чем лекарство можно будет распространять, его нужно испытывать семь лет, а за это время любой вирус мутирует, и, значит, лекарство нужно изобретать заново.
В.Л.: Кто вас как интервьюера интересует?
Б.А.: Любой профессионал. Но говорить с ним вовсе не обязательно о его работе. Вот я прочел мемуарную книгу Басилашвили, а он там пишет, что немцы выстрелили торпедой по Кремлю и убили драматурга Афиногенова – откуда торпеда? Почему Афиногенова? Беру энциклопедию – точно: убит при бомбежке Москвы. И когда я с Басилашвили разговаривал, он мне подтвердил, что все так и было, только не торпеда, конечно, это в издательстве напутали, а ракета. Немцы целились в ЦК – ну, кого они там из членов ЦК убили, никого не интересует, а драматурга жалко. Басилашвили – свидетель этой истории, он жил рядом с Кремлем. Были передачи с Сокуровым, с Петкевич, Граниным, Ястребенецким… Все эти люди во многом сохранили тот язык, который у нас был на переходе от девятнадцатого века к двадцатому, они немного иначе говорят. Мне бесконечно интересен Гранин – он пережил фантастическую эволюцию. Гранин никогда не говорил неправду, но кое о чем умалчивал, а сейчас – всю правду. И при этом становится все моложе, красивее и бодрее. Он интересуется современной литературой, философией, ему интересно, что думают молодые люди – искренне интересно.
В.Л.: Получается, вас больше интересуют пожилые люди? В чем тут дело? В близости, пусть и относительной, смерти?
Б.А.: Да, перед людьми, которым девяносто и за девяносто, я просто благоговею. Молодой человек либо совсем не думает о смерти, либо думает о ней в трагическом аспекте. Он не думает о ней как о радости, как о преображении – этого нет, смерть вызывает у него ужас. А здесь отношение к смерти совсем другое. Даниил Александрович это состояние переживал раза четыре, Тамара Владиславовна Петкевич тоже была на грани много раз, ну и я тоже частично пребывал в этом забавном состоянии – очень полезно для человека. Конечно, начинаешь смотреть на жизнь иначе. Толстой говорил: если собираешься совершить поступок, представь себе, что вечером умрешь – безошибочно выберешь, что нужно сделать. Молодой человек должен быть нацелен в будущее, на созидание. А пожилой должен уклониться от деяния, потому что всякое деяние есть зло, любое. Это не я сказал. Мы не можем знать последствия наших поступков. Шеллинг говорит: субъективное – это наши поступки, а объективное – это их непредсказуемые результаты. Всякий поступок это ядерная реакция, сто тысяч осколков, и какой из них станет определяющим, нам не известно. Поэтому пожилой человек знает, что недеяние лучше. И это самое трудное. Недавно Гранин рассказывал мне, как ему понравилась статья Секацкого в «Новом мире» - а в этой статье Секацкий как раз открывает для себя недеяние. Для молодого человека недеяние немыслимо, все нацелено на деятельность – и это правильно. А что касается смерти – то это идеал недеяния. Здесь, с этой стороны, после смерти любой человек превращается в миф, короткий ли, долгий ли, а что будет там – что будет сниться в смертном сне, не знает никто. Набоков считал, что после смерти я превращаюсь в огромный глаз и вижу во все концы света. Это хорошая формула. У каждого рай – это то лучшее, что было в жизни. Я, например, точно знаю, что если я попаду в рай, я буду там собирать грибы.
В.Л..: Вы поэтому перебрались поближе к лесам?
Б.А.: Я всегда жил в Петергофе, а мой нынешний адрес, поселок Володарка, улица Пролетарская – это самая великая насмешка, которую совершила надо мной жизнь. Я до десятого класса никогда не был сыт, одет, а теперь… Толстой в конце жизни ушел из имения, а я оказался в самом настоящем имении.
В.Л.: А если говорить о начале, как получилось, что вы выбрали филологию?
Б.А.: Я ничего не выбирал никогда, все решалось само собой. Кроме одного раза. По первой специальности я был геофизиком. Страсть к путешествиям, охота к перемене мест – кто меня понимает, так это Битов, мы всю жизнь путешествуем, только бы путешествовать. Я работал в Арктическом институте, Антарктида меня не интересовала, но я мечтал о кругосветном путешествии: садишься здесь, практически на Северном полюсе, и спускаешься на Южный… В какой-то момент новый директор устроил переаттестацию, вызвал меня и говорит: вот вы, мол, заведуете отделом, а сами учитесь на филологическом факультете на заочном, почему? Я сказал, что люблю изучать языки. Тогда он предложил мне: давайте, говорит, вы поедете в Женеву, там есть международный метеорологический центр, а в нем от нас работает человек, который не то что по-француски или по-английски – он по-русски-то два слова связать не может. У меня уже были оформлены документы в Антарктиду, но Женева для советского человека – это даже не соцлагерь, в который и то было сложно попасть… Я согласился. И вдруг меня вызывает заведующий кафедрой истории русской литературы ЛГУ Георгий ПантелеймоновичМакогоненко и сообщает, что договорился с заведующим ИРЛИ, и меня возьмут в аспирантуру. Я прихожу в назначенное время в Пушкинский дом, хожу по нему, а он так сильно напоминает мой Арктический институт, и вот я думаю – что я буду менять один институт на другой, лучше поеду-ка я в Женеву. Подождал лишние полчаса, директорвсе был занят – и ушел, отказался от аспирантуры. Я даже прошел медицинское освидетельствование, и даже обком партии на эту командировку – проходил его, кстати, вместе с Хилем, он тогда ехал петь в Японию, так что мы с ним вместе отвечали на все эти идиотские вопросы. И вдруг звонок от Макогоненко: такого-то профессора позвали преподавать в Америку, у нас освободились полставки ассистента, и хотя никаких надежд остаться потом на кафедре нет, потому что профессор вернется, я вам все же предлагаю это место. И я не думая говорю – иду. И вся Антарктика и вся Женева полетели к чертовой матери. Я ни секунды не раздумывал, не колебался.
В.Л.: Значит ли это, что мир потерял физика Аверина?
Б.А.: Нет. Я занимался геофизическими науками с огромным удовольствием до третьего курса. А потом я понял, что одна геофизическая наука никакого отношения к другой не имеет. То есть сейсмология, гидрология, аэрология, озонометрия - они никак не связаны. Единой картины мира нет. Здесь каждая наука в самой себе, каждую я знаю, одну хуже, другую лучше, но возможности соединить их вместе нет. Если вы спросите, как возник земной шар, то любой биолог, физик скажет, что он не может возникнуть по тем теориям, которые существуют – большого взрыва и так далее. Это все пустое, еще наивнее, чем Зевс. Чистая мифология, причем для нормального сознания человека, занимающегося физическими науками, невозможная – не может возникнуть жизнь, где все должно развиться – из чего? Из одной бактерии! – одной бактерии не существует, только в сообществе. А как это сообщество возникло? Да никак. Объяснения нет, общей картины мира нет. Как-то я вернулся с зимовки и купил билет книжной лотереи. Выиграл пять рублей – бешеные деньги! – но не деньгами, а книгами. Я приобрел Бунина и Платонова. А ни того, ни другого я до тех пор не читал. Я был потрясен. Платоновым я начал заниматься в октябре, а в марте опомнился, что не помню зимы, не помню Нового года, начала весны – такая это была увлеченность: библиотеки, архивы... Я хотел понять: что он имеет в виду? «Цветок на Земле» - я до сих пор ничего не понимаю, что он хочет сказать. Это потрясающе интересно. Или «Фро»: «Фашистка она, что ли? Как же я зачал ее от жены? Не помню!» И потом он говорит дочери: «Тебе до мещанки еще долго жить и учиться нужно: те хорошие женщины были». И после этого «он открыл дверку духового шкафа, спрятал туда голову и там заплакал над сковородкой с макаронами». Это поражало. А Бунин - это вообще ни в какие ворота. Мне никакое литературоведение было не интересно, я хотел для себя понять, что же все-таки это такое. Оказалось, если в физике общей картины мира нет, то литература - это философия, социология, психология, искусство – это все вместе. Так оно и продолжилось: курсовая работа у меня была о Платонове, а диплом о Бунине.
В.Л.: А с чего началось увлечение Набоковым?
Б.А.: В 1980 году мне принесли перепечатку романа «Приглашение на казнь», машинопись. У меня был друг физик, потрясающий книгочей, у него была болезнь сердца, и его перед операцией отпустили домой. Я, восхищенный, несу ему эту папку, он смотрит на название и говорит: да, очень своевременная книга. Через месяц, после операции на сердце, он умер. Набоков потряс нас всех. Это еще один писатель, который абсолютно непонятен. С Буниным – там хоть что-то ясно, и то в основном благодаря рукописям, а про Набокова я до сих пор не могу сказать, что все понимаю. Это, знаете, детское любопытство. Я в детстве любил бродить по лесам, по полям – и вот видишь еще одну тропинку, а куда она ведет, не знаешь. И всегда лучше идти по неизвестной дороге. Интересно, потому что непонятно.
В.Л.: Но вы интерпретируете тексты?
Б.А.: Да, конечно. Я сижу над текстом, думаю о нем, и вдруг мне открывается нечто, чего я никогда не видел. Вот я читаю «Приглашение на казнь», там герой оказывается перед дверью с надписью «канцелярия», а в другой раз идет, и первая буква отвалилась, получилось «анцелярия». Что это? А это просто алфавит от А до Я, а слово «казнь» исчезло». Потому что в основе бытия лежит алфавит. Но это не наука, а не более чем бесконечное любопытство человека, который хочет понять. Что хочет понять? А то, есть ли в жизни закономерность. Какой-нибудь глупый Маркс, которого мне бесконечно жалко, говорит, что есть законы истории. Но таких законов нет. В каждой точке есть набор возможностей. Вот точка, и есть 128 возможностей, а куда все пойдет, я не знаю. Это точка бифуркации. Закономерностей нет. Вы скажете, что вода закипает, и я скажу, что, да, закипает при температуре 100 градусов, но только если давление 760 мм, - а таких условий тысяча, все их учесть невозможно. Все эти системы – таблица умножения, таблица логарифмов, таблица Менделеева – весьма полезны, но на вопрос о смысле бытия точные науки не ответят никогда.
В.Л.: Бродский говорил, что мы хотя бы знаем, чем все это заканчивается…
Б.А.: Закономерности существует в разуме человека, мы задаем их миру, а какие они там у самого мира, никто не знает, даже не догадывается. И не нужно. То есть догадываться-то – хорошо и интересно, но все равно ничего не получится. Нет закономерностей, а есть набор возможностей, и зависит он от нравственности. Если бы Татьяна Ларина изменила мужу – мир бы рухнул. Вот абсолютный стержень: я другому отдана и буду век ему верна – все, это абсолютный выбор. Белинский этого не понимает: она, мол, идет за мнением света…
В.Л.: Это религиозная картина мира?
Б.А.: Не совсем. Религия, к сожалению, настолько срослась с церковью, а церковь настолько срослась с государством, что отделить одно от другого уже невозможно. И в этом смысле я толстовец. То, что было в христианстве, в церкви и государстве во многом утратилось. Священник вас благословляет на убийство, вы приносите присягу… А как же «не убий», «не клянись»? Это что, христианство? Даже близко не пахнет. Мы из религии делаем политику – и в этом трагедия.
В.Л.: А почему филология, а не история?
Б.А.: Я всю жизнь занимался историей. Смотрите: в Стрельне было сделано 3,5 миллиона кирпичей. Часть из них пошла на Монплезир, а часть – на здание Двенадцати коллегий. Вот такие вещи меня интересуют. Этим летом я вел экскурсию для детей по Петергофу и раздал им открытки с «Самсоном». На одной написано: «Самсон» – и больше ничего. На другой: «Самсон», скульптор Козловский – и больше ничего. Но «Самсона» создал Растрелли, и только потом в 1801 году скульптуру сняли, новую сделал Козловский, а ту, что стоит сейчас, создал Симонов. Что написать на открытке? Неизвестно. Есть три «Самсона» – и мне интересны все три. Козловский снял львиную шкуру с плеча – это мы знаем. А какой это Самсон – библейский или мифологический? Волосы короткие – значит, не библейский. Но лев-то есть, так что может быть и библейский… Один историк рассказывал мне, кстати, про Самсона и про львов. Мы-то думаем, что это что-то невероятное – разорвать пасть льву, а на самом деле тогда на территории Иудеи водились львы значительно меньшего размера, чем африканские.
В.Л.: А в истории есть смысл? В чем отличие в изучении истории и литературы?
Б.А.: История – это всегда деяние. А чтение литературного произведения – это игра в бисер: я разбираю нечто, что не имеет прямого отношения к жизни, но страшно интересно, - чистое недеяние. Как я трактую Обломова – это мои заботы. Для меня Обломов – это великий учитель, который становится учителем после смерти. При жизни мы его осуждаем: он ничего не делает. Но после смерти о нем все говорят: боже, какой был человек! Штольц, Осип, даже автор говорит. Он знал то, чего не знал никто, прожил, как ни странно, счастливую жизнь, хоть и страдал, учителем не был – но стал учителем после смерти. Ему было дано много способностей, а он ничего не осуществил, но – стал учителем. Это великое недеяние.
Когда становишься старше – ничего особенного не происходит. Но жить мне становится все интереснее. Что молодость – расцвет, а старость – угасание, – это абсолютная ошибка. Древние писали, что лучший возраст наступает после шестидесяти, а мой папа говорил, что даже после семидесяти. Есть только одно «но», говорил он, – нет ни одного человека, с которым я могу вспомнить молодость: война, пятнадцать лет лагерей – никого не осталось. А все остальное… Страстей, которые так любят молодые люди, в пожилом возрасте больше. И любовь к ближнему, и любовь к женщине – все это сильнее. Как у Ахматовой в стихотворении о любви зрелой женщины: крапива запахла, как роза, только сильней. Старость – это крапива, а молодость – роза, но крапива запахла, как роза. Только сильней. Я недавно был на дне рождения Григория Даниловича Ястребенецкого – ему исполнилось девяносто лет: красивый, преуспевающий, работающий – вот жизнь! А в восемнадцать лет все плохо – тоска, жизни нет. И невольно отдаешь предпочтение девяностолетнему. Просто до этого нужно дойти. Нет смысла говорить детям: будьте мудрыми, исповедуйте недеяние, – дети должны совершить все ошибки, а вот когда совершат, к семидесяти годам поумнеют. Им просто станет лучше жить. Отпадет суета, самолюбие, забота о карьере… Это гимн старости, но я с таким же удовольствием пропою и гимн молодости. Я редко вспоминаю свою молодость, но там тоже было много хорошего. Самое прекрасное – влюбленности. Но не то, что вы подумали, а такие влюбленности – совершенно никак не реализовавшиеся. Редчайшие моменты единения душ. Это не ваш секс, это Эрос. Абсолютное обаяние, абсолютная красота – такие состояния длятся всего несколько минут. Их не анализируешь, не фиксируешь, когда проживаешь, но потом они остаются в памяти как счастье, как золотой багаж, с которым можно прожить всю жизнь. Ничего не было, и не могло быть – но была божественная минута. А что касается любви, то любовь пожилого человека, конечно, гораздо сильнее. Она ни в чем не выражается, и ей не нужны отношения – это только состояние духа. «О как на склоне наших дней нежней мы любим и суеверней…» Потому что нет требований, нет присвоения – то самое незаинтересованное созерцание, о котором говорит Шопенгауэр. Молодости нужно все присвоить – мир, профессию, женщину... Эта девушка должна быть моей! Не твоя она. И не будет никогда твоей. Это бесполезное занятие. И только потом понимаешь, что это не нужно.
В.Л.: Чему вы учите своих студентов?
Б.А.: Да никого я ничему не учу. Я не знаю ничего такого, чему можно было бы научить. Ну что, я научу, что Толстой родился в 1828-ом году? Кому это нужно? Ну конечно, я это знаю, а они нет. Я даже знаю, в каком году родился Чехов – этого уж вообще никто не знает. Но чему учить – я не знаю. Вот я иду на лекцию, читаю текст и вдруг вижу в этом тексте что-то, чего я не видел никогда. Вот я читаю чеховскую «Дуэль» – с чего вдруг там Лаевский вспоминает Толстого? А вот почему: у него завтра дуэль, и его скорее всего убьют. Он думает, что было в его жизни, и оказывается, что ничего не было. Вот его завтра убьют – а ничего не было! И вдруг он вспоминает, что было детство, и была гроза, девочки испугались, все дети спрятались куда-то, прижались друг к другу – и девочки видели в нем опору. И он говорит: это было в моей жизни – в четырнадцать лет – а больше ничего, все остальное пустое. И вот после этого, когда он это вспомнил, ему страшно захотелось жить. Так причем Толстой? Когда Анна Каренина бросается под вагон – под первый она не успевает, и нужно дожидаться второго, – она кладет на себя крестное знамение, и вдруг вспоминает детство, юность, как это все было здорово. Зачем я это делаю? – спрашивает она, – но решение принято, уже середина вагона – и тут вдруг ярко вспыхивает свеча, которая освещает всю ее жизнь. И она бросается. Вот это Набоков называл рождением души. Что ужасного в ее жизни? В ней страсть и больше ничего. Страшная вещь, она охватывает многих людей и делает их несчастными. Здесь нужно увидеть, как прошел первый вагон, как идет второй, как вспыхивает жизнь, и она говорит себе «зачем я это делаю?» – вот и все, что я знаю. Они пропустили, а я прочитал. Об этом и рассказываю. А научить я ничему не могу.
В.Л.: Получается, вы учите частностям?
Б.А.: Да, точно, частностям. Я вот уже десять лет в аудитории зачитываю стихи Бунина:
Я к ней вошел в полночный час.
Она спала, – луна сияла
В ее окно, – и одеяла
Светился спущенный атлас.
Она лежала на спине,
Нагие раздвоивши груди, –
И тихо, как вода в сосуде,
Стояла жизнь ее во сне.
Я спрашиваю: что это значит? Можно было бы сказать, что это эротическое стихотворение, если бы не последние строчки. На них нужно обратить внимание, увидеть в них абсолютную правду и оставить без трактовки. Потому что когда я читаю трактовку и там написано, что Бунин тут демонстрирует пантеистическое восприятие жизни, мне хочется сказать – да бросьте вы дурака валять! Частности важнее. Общая интерпретация всегда умаляет сущность произведения. Конечно, я могу сказать, что «Анна Каренина» - это «Мне отмщение и Аз воздам», процитировать всех от Библии до Шопенгауэра, – ну, верно, ну и что? Ни черта не получается. Но когда Анна приезжает к Долли, дети бросаются ей на шею, и они играют, а после бала они к ней не подходят – почему? Дети понимают, что произошло что-то ужасное – а что дети в этом могут понимать? Или вот Стива говорит Левину: Долли сказала, что Кити будет твоей. О чем это он? Кити любит Вронского, он завтра сделает предложение – какая может быть у Левина надежда? Но Долли сказала, что она будет его женой, – и так и происходит. Потому что Долли кое-что в этом понимает.
В.Л.: Как же тогда поговорить с вами о существенном?
Б.А.: А чтобы поговорить со мной о существенном, это вам нужно пойти со мной в лес. И я вам буду говорить: вот это семицветник, а это манжетка, а это любка двулистная. Нужно все это пространство видеть как конкретику, так, как видит крестьянин. Он смотрит и видит, что ольха расцвела раньше черемухи – он знает, в чем дело. Существенна только конкретика, благодаря которой можно почувствовать благодать мира.
Интервью для marie_bitok@livejournal.com о впечатлениях от города Нальчик.
Готовясь к разговору с таким известным, авторитетным и знающим человеком, как Борис Валентинович Аверин, всегда испытываешь двойственное чувство: с одной стороны, не терпится поговорить, спросить, узнать мнение по какому-то волнующему тебя вопросу. А с другой, ощущается волнение и почти детский страх сделать что-то «не так». И когда, благодаря его простоте, открытости и внутреннему достоинству, улетучивается всякая скованность, то бывает трудно описать радость от общения с ним. Впервые я встретилась с Борисом Валентиновичем в университете, и невольно удивилась тому, как органичен он в этой обстановке, и как заряжается пространство вокруг каким-то обаятельным академизмом, если можно так сказать.
Борис Валентинович, что являет собой Кавказ в Вашем представлении? Совпала ли эта картина с той, которую Вы увидели, приехав в Нальчик?
У меня образ Кавказа первоначально был связан с Арменией, где я бывал, потом это Тбилиси, потом это побережье, а потом это огромная литература, связанная с Кавказом. Причем, литературу я, по-моему, знаю лучше, чем реальный Кавказ.
До этого я был только в Минводах в аэропорту. Пятигорск меня сразу поразил: пять гор. Конечно, про Машук и Бештау я все знаю, но вот так реально когда перед тобой равнина, и посреди равнины эти огромные горы – это незабываемо! Это те самые горы, которые описывал герой Л.Н. Толстого Оленин, когда едет и говорит: «…а горы... горы…». Может быть, это необязательно Пятигорск, но горы действительно поражают сами по себе. А здесь они вообще уникальны: здесь у вас они, по-моему, царствуют. Царствуют в том самом смысле, что они не властвуют, а проникают – здесь все проникнуто этой возвышающейся подковой гор. А что касается собственно города, то в представлении моем все на Кавказе меняется так, как и везде, потому что врывается новый мир, новая культура… Но слава богу, я теперь знаю Нальчик и таким, каким он был в 50-60-х годах! Это именно благодаря Наталье Полошевской, которая пишет о детстве, и Дине Арма – роман «Дорога домой». Если в первой книге впечатления описывает ребенок (причем, она так описывает, что все, описанное ею, я вижу, хотя это и детское зрение), то у Дины Арма роман начинается с Москвы, а потом уже следует возвращение домой. И здесь уже взрослый человек описывает Нальчик и тоже в 50-60-е годы… А ведь Нальчик 50-х годов уже практически утрачен, и это печально, но Нальчик затронула современность так же больно, как и Москву, и как частично Петербург.
Что значит Кавказ в историческом контексте для русской литературы и русской культуры?
Для России Кавказ – это то, что находится не пересечении двух прямых: географической оппозиции «север-юг», и ментальной – «запад-восток». Первая, можно сказать, осязаема и очень важна в мировоззренческом отношении, а вторая, хоть физически и неизмерима, но необходима для концептуального осознания мира. И с 19 века Кавказ воспринимался и воспринимается как восточное начало, которое сложно определить. Но скорее всего, дело здесь заключается в особом миросозерцании, которое сильно отличается от нашего. К примеру, на Востоке еда, трапеза еще сохраняют свое древнее культурное значение, у нас на Западе уже нет философии застолья, особенно в городах.
Что хорошо на Кавказе, и чего в России уже нет, это все-таки сильные традиции, идущие из глубины истории. У нас многие традиции утеряны. Крепостное право, а затем войны, а затем коллективизация подорвали русскую культуру. К примеру, когда я собирал русский фольклор, мы забирались в Архангельскую губернию в такие глубины, где нет вообще никакого транспорта, куда можно только летом по реке добраться, вот там еще сохранилось живительное фольклорное мироощущение. А вообще мы утратили фольклор – он у нас предмет изучения, а у вас фольклор пока еще сохраняется как образ жизни.
Сегодня Кавказ еще способен играть ту роль в жизни российского общества, которую он играл в 19 веке, или сегодня он – только раздражающий фактор?
Ответ на этот вопрос, мне кажется, очевиден: да, играет. Во-первых, как культура, которой пронизана с 19 века русская литература, а во-вторых, как оппозиция «свое-чужое». И это очень важно. Это другая культура, во многих своих проявлениях. Но когда мы в нее вчитываемся и пытаемся понять, мы очень плодотворно взаимодействуем. Кавказская культура пронизывает русскую, и в России всегда существовало огромное уважение к Кавказу. Кавказский человек – это безмерно храбрый воин, соблюдающий законы чести. Вот на чем построен конфликт «Хаджи-Мурата» Л.Н. Толстого? На том, что если Хаджи-Мурат говорит, что он будет служить честно, не надо сомневаться ни на минуту в том он будет служить. Но ведь русские власти этого не понимают – они все время его подозревают. Они не верят в те законы чести, которые существуют на Востоке.
В России все знают слово Кабарда, но это связано в первую очередь со скакунами. В 19 веке это был признак абсолютного благополучия – иметь кабардинского скакуна. Это мог себе позволить, скажем, граф Строганов в своих огромных конюшнях, которые представляют из себя дворец.
Ну и конечно, бесчисленное количество произведений литературы, и современная проза, и кинематограф по-прежнему обращаются к Кавказу. И совершенно гениален фильм Сокурова о Чечне «Александра».
Посмотрите на книги, которые у меня здесь лежат: Наталья Полошевская, Дина Арма, Нина Шогенцукова, Борис Чипчиков… Ведь в основном это женская литература, и никак не скажешь, что она хуже мужской, то есть сюда и определение такое не подходит. И я бы сказал, что это явление уникальное. Ну, всем понятно, что кавказская женщина – это мировое достояние. Когда Мадина Саральп написала книгу «…в реке времени…», всем стало понятно, что это действительно так.
Что руководило Вами в первую очередь, когда Вы соглашались сюда ехать читать лекции курсу Сокурова?
Во-первых, ко мне обратился с этим предложением Сокуров Александр Николаевич. Несмотря на то, что я значительно старше Сокурова, он для меня – абсолютный авторитет. А во-вторых, я никогда не был в этих местах. А во мне охота к перемене мест еще очень актуальна.
А какое впечатление произвели на Вас студенты? Чем-то они отличаются от студентов из других городов?
Сразу скажу: они мне нравятся! Если бы не нравились, я бы второй раз не приехал. Во-первых, это люди, которые в большинстве своем производят впечатление, что это взрослые люди. А во-вторых, они любознательные. Это заметно. В них еще не убит интерес к образованию, а одно из величайших наслаждений в жизни – это знание. Кроме того между моими студентами, среди которых есть кабардинцы, балкарцы, дагестанцы, чеченцы, не возникает никаких проблем.
Так что впечатление от студентов самое хорошее, у меня к ним искреннее душевное расположение. Кроме того, на мой взгляд, все они очень красивы.
Хотя я могу сказать, что общий кругозор у них уже, чем у студентов-интеллектуалов в Петербурге.
Вернемся к литературе. Что-то продолжает удивлять и радовать Вас в литературе, которая давно уже является Вашей профессией?
Меня продолжает удивлять в литературе, так же как и в городе Нальчике, большое количество современных ярких талантливых писателей. Откуда они взялись? Учитывая, что русская интеллигенция, как и кавказская, начиная с 1917 года и по сей день несет значительные потери. Уму непостижимо, откуда эти таланты? Вроде бы все корни изведены. Где наши предки? Они или погибли в лагерях, или на войне полегли, правда ведь?
Вот в том-то и дело, что какие-то такие мощные корни были у русской литературы, что ее не перевести, ее не вывести. Она неизвестно откуда произрастает. Ее не должно быть – должно быть выжженное поле. А она все-таки есть! И вот это меня поражает!
Ваши любимые книги, которые и сегодня перечитываются Вами.
По количеству перечитываний на первом месте стоит «Война и мир». Я каждый год брал с собой в отпуск этот роман. Это одно из моих любимых произведений, как и вообще весь Л.Н. Толстой, но не только. Очень сильно будоражит Пушкин, а без Гоголя вообще никуда. Наверное, удивил бы современную молодежь, сказав, что я очень люблю Тугенева. Я не могу отделаться от своей вражды-любви к Салтыкову-Щедрину. Невероятно почитаю Чехова! Знаю много его наизусть. Гаршин и Короленко мне близки, как родственники. Ну а затем наступает Бунин… А затем наступает Андрей Платонов, Зощенко и Булгаков. А потом приходит, мне так кажется, автор, который замкнул великую русскую литературу 19 и 20 века, Владимир Набоков. Последнее время я перечитываю его чаще других и тоже многое знаю наизусть. Вот такой круг чтения.
При этом я достаточно хорошо знаю современную петербургскую прозу. И с некоторыми писателями я даже почти что в дружеских отношениях, и это мне очень приятно.
Поэзии я здесь не коснулся, но это уже особый разговор…
Напоследок хочу сказать. У нас в Петербурге есть организация, которая называется «Живая классика». Это международная ассоциация. Я льщу себе надеждой, что мы когда-нибудь в нашу ассоциацию пригласим литераторов Нальчика. И художников бы хорошо! Чтобы там были поэты, прозаики, художники и еще те люди, которые что-то умеют делать руками, то есть занимаются промыслами.
осень 2010
Борис Валентинович, что являет собой Кавказ в Вашем представлении? Совпала ли эта картина с той, которую Вы увидели, приехав в Нальчик?
У меня образ Кавказа первоначально был связан с Арменией, где я бывал, потом это Тбилиси, потом это побережье, а потом это огромная литература, связанная с Кавказом. Причем, литературу я, по-моему, знаю лучше, чем реальный Кавказ.
До этого я был только в Минводах в аэропорту. Пятигорск меня сразу поразил: пять гор. Конечно, про Машук и Бештау я все знаю, но вот так реально когда перед тобой равнина, и посреди равнины эти огромные горы – это незабываемо! Это те самые горы, которые описывал герой Л.Н. Толстого Оленин, когда едет и говорит: «…а горы... горы…». Может быть, это необязательно Пятигорск, но горы действительно поражают сами по себе. А здесь они вообще уникальны: здесь у вас они, по-моему, царствуют. Царствуют в том самом смысле, что они не властвуют, а проникают – здесь все проникнуто этой возвышающейся подковой гор. А что касается собственно города, то в представлении моем все на Кавказе меняется так, как и везде, потому что врывается новый мир, новая культура… Но слава богу, я теперь знаю Нальчик и таким, каким он был в 50-60-х годах! Это именно благодаря Наталье Полошевской, которая пишет о детстве, и Дине Арма – роман «Дорога домой». Если в первой книге впечатления описывает ребенок (причем, она так описывает, что все, описанное ею, я вижу, хотя это и детское зрение), то у Дины Арма роман начинается с Москвы, а потом уже следует возвращение домой. И здесь уже взрослый человек описывает Нальчик и тоже в 50-60-е годы… А ведь Нальчик 50-х годов уже практически утрачен, и это печально, но Нальчик затронула современность так же больно, как и Москву, и как частично Петербург.
Что значит Кавказ в историческом контексте для русской литературы и русской культуры?
Для России Кавказ – это то, что находится не пересечении двух прямых: географической оппозиции «север-юг», и ментальной – «запад-восток». Первая, можно сказать, осязаема и очень важна в мировоззренческом отношении, а вторая, хоть физически и неизмерима, но необходима для концептуального осознания мира. И с 19 века Кавказ воспринимался и воспринимается как восточное начало, которое сложно определить. Но скорее всего, дело здесь заключается в особом миросозерцании, которое сильно отличается от нашего. К примеру, на Востоке еда, трапеза еще сохраняют свое древнее культурное значение, у нас на Западе уже нет философии застолья, особенно в городах.
Что хорошо на Кавказе, и чего в России уже нет, это все-таки сильные традиции, идущие из глубины истории. У нас многие традиции утеряны. Крепостное право, а затем войны, а затем коллективизация подорвали русскую культуру. К примеру, когда я собирал русский фольклор, мы забирались в Архангельскую губернию в такие глубины, где нет вообще никакого транспорта, куда можно только летом по реке добраться, вот там еще сохранилось живительное фольклорное мироощущение. А вообще мы утратили фольклор – он у нас предмет изучения, а у вас фольклор пока еще сохраняется как образ жизни.
Сегодня Кавказ еще способен играть ту роль в жизни российского общества, которую он играл в 19 веке, или сегодня он – только раздражающий фактор?
Ответ на этот вопрос, мне кажется, очевиден: да, играет. Во-первых, как культура, которой пронизана с 19 века русская литература, а во-вторых, как оппозиция «свое-чужое». И это очень важно. Это другая культура, во многих своих проявлениях. Но когда мы в нее вчитываемся и пытаемся понять, мы очень плодотворно взаимодействуем. Кавказская культура пронизывает русскую, и в России всегда существовало огромное уважение к Кавказу. Кавказский человек – это безмерно храбрый воин, соблюдающий законы чести. Вот на чем построен конфликт «Хаджи-Мурата» Л.Н. Толстого? На том, что если Хаджи-Мурат говорит, что он будет служить честно, не надо сомневаться ни на минуту в том он будет служить. Но ведь русские власти этого не понимают – они все время его подозревают. Они не верят в те законы чести, которые существуют на Востоке.
В России все знают слово Кабарда, но это связано в первую очередь со скакунами. В 19 веке это был признак абсолютного благополучия – иметь кабардинского скакуна. Это мог себе позволить, скажем, граф Строганов в своих огромных конюшнях, которые представляют из себя дворец.
Ну и конечно, бесчисленное количество произведений литературы, и современная проза, и кинематограф по-прежнему обращаются к Кавказу. И совершенно гениален фильм Сокурова о Чечне «Александра».
Посмотрите на книги, которые у меня здесь лежат: Наталья Полошевская, Дина Арма, Нина Шогенцукова, Борис Чипчиков… Ведь в основном это женская литература, и никак не скажешь, что она хуже мужской, то есть сюда и определение такое не подходит. И я бы сказал, что это явление уникальное. Ну, всем понятно, что кавказская женщина – это мировое достояние. Когда Мадина Саральп написала книгу «…в реке времени…», всем стало понятно, что это действительно так.
Что руководило Вами в первую очередь, когда Вы соглашались сюда ехать читать лекции курсу Сокурова?
Во-первых, ко мне обратился с этим предложением Сокуров Александр Николаевич. Несмотря на то, что я значительно старше Сокурова, он для меня – абсолютный авторитет. А во-вторых, я никогда не был в этих местах. А во мне охота к перемене мест еще очень актуальна.
А какое впечатление произвели на Вас студенты? Чем-то они отличаются от студентов из других городов?
Сразу скажу: они мне нравятся! Если бы не нравились, я бы второй раз не приехал. Во-первых, это люди, которые в большинстве своем производят впечатление, что это взрослые люди. А во-вторых, они любознательные. Это заметно. В них еще не убит интерес к образованию, а одно из величайших наслаждений в жизни – это знание. Кроме того между моими студентами, среди которых есть кабардинцы, балкарцы, дагестанцы, чеченцы, не возникает никаких проблем.
Так что впечатление от студентов самое хорошее, у меня к ним искреннее душевное расположение. Кроме того, на мой взгляд, все они очень красивы.
Хотя я могу сказать, что общий кругозор у них уже, чем у студентов-интеллектуалов в Петербурге.
Вернемся к литературе. Что-то продолжает удивлять и радовать Вас в литературе, которая давно уже является Вашей профессией?
Меня продолжает удивлять в литературе, так же как и в городе Нальчике, большое количество современных ярких талантливых писателей. Откуда они взялись? Учитывая, что русская интеллигенция, как и кавказская, начиная с 1917 года и по сей день несет значительные потери. Уму непостижимо, откуда эти таланты? Вроде бы все корни изведены. Где наши предки? Они или погибли в лагерях, или на войне полегли, правда ведь?
Вот в том-то и дело, что какие-то такие мощные корни были у русской литературы, что ее не перевести, ее не вывести. Она неизвестно откуда произрастает. Ее не должно быть – должно быть выжженное поле. А она все-таки есть! И вот это меня поражает!
Ваши любимые книги, которые и сегодня перечитываются Вами.
По количеству перечитываний на первом месте стоит «Война и мир». Я каждый год брал с собой в отпуск этот роман. Это одно из моих любимых произведений, как и вообще весь Л.Н. Толстой, но не только. Очень сильно будоражит Пушкин, а без Гоголя вообще никуда. Наверное, удивил бы современную молодежь, сказав, что я очень люблю Тугенева. Я не могу отделаться от своей вражды-любви к Салтыкову-Щедрину. Невероятно почитаю Чехова! Знаю много его наизусть. Гаршин и Короленко мне близки, как родственники. Ну а затем наступает Бунин… А затем наступает Андрей Платонов, Зощенко и Булгаков. А потом приходит, мне так кажется, автор, который замкнул великую русскую литературу 19 и 20 века, Владимир Набоков. Последнее время я перечитываю его чаще других и тоже многое знаю наизусть. Вот такой круг чтения.
При этом я достаточно хорошо знаю современную петербургскую прозу. И с некоторыми писателями я даже почти что в дружеских отношениях, и это мне очень приятно.
Поэзии я здесь не коснулся, но это уже особый разговор…
Напоследок хочу сказать. У нас в Петербурге есть организация, которая называется «Живая классика». Это международная ассоциация. Я льщу себе надеждой, что мы когда-нибудь в нашу ассоциацию пригласим литераторов Нальчика. И художников бы хорошо! Чтобы там были поэты, прозаики, художники и еще те люди, которые что-то умеют делать руками, то есть занимаются промыслами.
осень 2010
Интервью для "Theory&Practice" - "Мы помним всего 5 процентов своей жизни": Борис Аверин о том, как не потерять себя
В эпоху клипового мышления, когда человек пресыщен ненужной информацией и ложными впечатлениями, он все чаще рискует стать жертвой размытия собственной личности. Филолог и историк СПбГУ Борис Валентинович Аверин рассказал «Теориям и практикам» о воспоминаниях как способе воссоздать собственную личность, недугах информационного общества и вольтовой дуге прошлого и настоящего.
Память — мертвый груз, но ее можно актуализировать
Мы забываем практически все, даже собственную жизнь — психологи утверждают, что мы помним из нее всего 5%. Существуют автобиографии, составленные в виде анкетных данных — кто вы такой, где вы учились и так далее. Если вы захотите написать такую автобиографию, у вас получится шесть листов, потом вы остановитесь. Потому что, если идти по горизонтали, пересказать свою жизнь нетрудно. А если по вертикали — очень трудно. Ведь в этом случае я должен вспомнить не номер школы, не имена учительниц, а то, когда я в первый раз ощутил красоту природы, когда я впервые понял какую-то книгу, когда я впервые почувствовал, что вот эта музыка на меня действует. Я должен вспомнить, когда я сделал первую подлость, воскресить минуты сильных переживаний, подробности отношений с близкими. И это невероятно трудно. И остановиться, погружаясь в такие вспоминания, невозможно. Обратите внимание, что все великие автобиографии великих писателей заканчиваются где-то на этапе молодости.
Напротив здания Академии художеств стоят сфинксы, и там написано — привезены из Фив в таком-то году, это XV век до нашей эры. Уже тогда создатели сфинксов прекрасно понимали, что мы состоим из плоти (тело льва), и сознания (человеческая голова). И между плотью и духом — сложнейшие взаимоотношения. Рассудок наш вспоминает события, но, кроме того, есть память сердца, обращенная к тому, что я когда-то переживал. Такая память — редкое явление. Чаще всего она не актуализируется, она — мертвый груз, но ее можно актуализировать.
Когда мы погружаемся в глубины своего духа, происходит совсем иное, чем когда мы пишем дневники и мемуары. Иногда одно с другим сочетается. Вот Герцен, лицо историческое, и он сам пишет историю — императоры, князья, журналы… Но в центре его истории все равно стоит измена жены. Оказывается, чем более я субъективен, тем больше я черпаю из колодца жизни. Попытка родить в себе начало сознательное, духовное — это второе рождение. И примеров тому много, они запечатлены в философии и литературе.
Мы знаем, что прошлое определяет настоящее. Но актуализированная память говорит об обратном. Я говорю, что настоящее определяет прошлое. Тот момент, который я сейчас переживаю, он вдруг совершенно другим светом освещает историю и мою прожитую жизнь. Настоящее открывает прошлое. Возникает явление вольтовой дуги, происходит соединение прошлого и настоящего. Еще студентом я читал «Жизнь Арсеньева» Бунина и прекрасно осознавал, что я этот роман не понимаю. Бунин пишет о младенческих воспоминаниях, воспоминаниях души — все это было для меня закрыто полностью. По Бунину, младенчество печально, потому что душа еще не до конца забыла, как до своего рождения испытывала блаженство. Бунин невероятно остро воспринимает жизнь, так, как не могут воспринимать большинство людей, которым бытие кажется монотонным, окрашенным в невыразительные серо-белые тона. А он воспринимал материальный мир с необычайной силой. У него бывали такие странные состояния сознания, когда он будто бы вспоминал не только свое настоящее, но еще и далекое прошлое за чертой собственного рождения. И когда он спросил о таких переживаниях Льва Толстого, тот ответил: я даже помню, как когда-то был козленком.
При этом есть люди, которые не учатся, не получают знания, а вспоминают их. Это факт, спорить с ним невозможно. Владимир Казимирович Шилейко, второй муж Анны Ахматовой, занимался Месопотамией, шумерами, древними, давно забытыми культурами. Поступив на восточный факультет, на третьем курсе он написал такую работу об ассиро-вавилонской культуре, что ее сразу же перевели на иностранные языки. За три года он начинает воспринимать культуру XV века до н.э. так глубоко, что его труды изучают специалисты, которые занимаются этим всю жизнь. И таких людей довольно много. Владимир Соловьев, Вячеслав Иванов, Андрей Белый, частично — Блок. Они что-то такое вспоминают, на что многие люди тратят годы. Вячеслав Иванов сказал: «Мне кажется, что сейчас наступает новая мифологическая эпоха. И я один из первых людей, которые чувствуют это начало». Но это чувство дано человеку, способному погрузиться в глубокое прошлое.
Лев Николаевич Толстой тоже был фантастически образован. Когда он писал «критику догматического богословия», он изучил древнееврейский, а когда увлекся Гомером, изучил древнегреческий, и все это в возрасте глубоко за 50. А сколько языков знал Вячеслав Иванов — это немыслимо. Он изучал культ Диониса, который имел большое значение в древней Греции, но книгу написал о Дионисе и прадионисийстве. Мы и о самом культе не так много знаем — а он занят предысторией этого культа.
Берега вечности и забвения
Тема памяти — главная в мировой философии и религии тоже. Если вы возьмете Библию и откроете симфонию, в которой указано, где и сколько раз употребляется каждое слово, вы увидите, что в Библии 32 раза употребляется слово память в разном контексте. В целом — это память Бога обо мне и моя память о Боге. Но это Библия. А кроме нее существовало огромное количество культур, где тема памяти всегда была центральной, к примеру, божественный Платон. Есть всем известное, но не всеми понимаемое высказывание о том, что всякое знание есть воспоминание. Вы сразу скажете, что я не могу вспомнить таблицу Менделеева, я должен ее выучить. Но здесь имеется в виду знание, которое определяет наше бытие, его смысл, наше восприятие мира. Вот это знание нужно вспомнить. Перед тем, как воплотиться, душа пребывала там, где царят гармония, красота и блаженство. А когда она воплотилась, забыла это состояние. Мы забыли состояние блаженства, но оно нам все-таки ведомо. Когда я воспринимаю красоту природы, когда я люблю, когда я занимаюсь творчеством, я вдруг испытываю такое состояние, которое приближает меня к воспоминанию о том, что я знал извечно.
У каждого из нас есть две вечности, одна — до рождения, а другая — после рождения. И можем ли мы проникнуть в за-бытие? Об этом думал Толстой, вслед за ним — Набоков, сказавший в «Других берегах»: «Колыбель качается над бездной…» Легко относятся к смерти либо верующие люди, либо полные атеисты. Но есть странные люди вроде Шекспира, которые задумываются, что будет сниться в смертном сне. Древние говорили, что философия существует исключительно для познания смерти.
С точки зрения физики и физиологии проникнуть в области за-бытия и пра-памяти мы, конечно, не можем. Но это если брать человека телесного, а если брать его сознание? Его можно определить как Tabula rasa — я родился и ничего не знаю, я как чистая доска, на которой пишут родители, общество, книжки и знания, которые я получаю. А может быть, знание наследуется, и мой мозг несет в себе следы прежних восприятий, прежних существований. И вот это надо вспомнить. Не про это ли греки говорят: «Познай самого себя»?
Как актуализировать память?
Почему наша память не живет, почему она так пассивна? Потому что мы погружены в реальную жизнь. У нас такое количество дел, и сделать их так необходимо, что заглянуть внутрь себя просто некогда. Мы очень любим общение, и сейчас оно становится беспрерывным. В таких условиях я ничего о себе не вспомню. Но отправьтесь, например, путешествовать в одиночку, и вы увидите, как появляется некоторая событийная сетка, причем очень необычная.
Умение быть наедине с собой, это очень важно. Также важно, как и услышать другого человека. Люди редко вступают в настоящий диалог, чаще каждый говорит о своем. Нужно выйти из этого замкнутого состояния. Но услышать другого, услышать мир, услышать искусство и природу — это способность, которая мало кому дана. Если хочешь ее получить, немного отойди от тех бесконечных забот, в которые ты погружен. Победи в себе отрицательные, негативные эмоции. Ведь даже простая попытка победить негативную эмоцию — это уже погружение внутрь себя. И если я не могу возлюбить врага своего, то могу хотя бы забыть его. Могу не испытывать к нему отрицательных эмоций. Это нелегко, но возможно.
Цифровая память, цифровая техника — это огромный прогресс, и я не собираюсь умалять достоинства прогресса. А теперь приведу пример из Островского. Феклуша в «Грозе» говорит: «Я видела паровоз, это дьявол. Я даже ноги видела». Казалось бы, Феклуша глупая странница, что с нее взять? Но теперь вспомните, как часто яркие трагические события, описанные в русской литературе, происходят на железной дороге. «Анна Каренина» или стихотворение Блока. Феклуша, оказывается, что-то чувствует. Начав строить железные дороги, мы резко увеличили скорость перемещения и до сих пор продолжаем всеми способами ее увеличивать. Во главе идеи прогресса стала идея скорости.
Теперь представьте себе, как делалась фотография. XIX век, богатый, образованный человек, покупает сложнейшую аппаратуру, знает химию, фотографирует. Он занимается кадрированием, экспозицией, работает с освещением. Теперь мы можем сделать тысячу фотографий за одну минуту, и 99% этой информации будет никому не нужно. У меня не смыкается эта фотография с моим прошлым. Фауст у Гете первым делом просит Мефистофеля показать ему все страны, которые ему интересны — одним разом. Это Гете предугадывает наши с вами времена. Огромное множество фотографий только утомляет мой и без того утомленный рассудок. Знаете, сколько книг было в библиотеке у Пертарки? 26 книг, они были рукописными. Во всяком прогрессе — огромный регресс, и никогда прогресса не бывает без потерь. Туристы подходят к храму и начинают фотографировать. Они сделали снимки и ушли, даже не задумавшись, что это возвышается перед ними. Сознание современного человека превратилось в огромный резервуар, до предела насытилось сведениями, которые мы все продолжаем поглощать и поглощать. Фантастический прогресс ведет к чудовищному регрессу сознания. Информация вытесняет память.
Alexey Pavperov
15 апреля 2015
Память — мертвый груз, но ее можно актуализировать
Мы забываем практически все, даже собственную жизнь — психологи утверждают, что мы помним из нее всего 5%. Существуют автобиографии, составленные в виде анкетных данных — кто вы такой, где вы учились и так далее. Если вы захотите написать такую автобиографию, у вас получится шесть листов, потом вы остановитесь. Потому что, если идти по горизонтали, пересказать свою жизнь нетрудно. А если по вертикали — очень трудно. Ведь в этом случае я должен вспомнить не номер школы, не имена учительниц, а то, когда я в первый раз ощутил красоту природы, когда я впервые понял какую-то книгу, когда я впервые почувствовал, что вот эта музыка на меня действует. Я должен вспомнить, когда я сделал первую подлость, воскресить минуты сильных переживаний, подробности отношений с близкими. И это невероятно трудно. И остановиться, погружаясь в такие вспоминания, невозможно. Обратите внимание, что все великие автобиографии великих писателей заканчиваются где-то на этапе молодости.
Напротив здания Академии художеств стоят сфинксы, и там написано — привезены из Фив в таком-то году, это XV век до нашей эры. Уже тогда создатели сфинксов прекрасно понимали, что мы состоим из плоти (тело льва), и сознания (человеческая голова). И между плотью и духом — сложнейшие взаимоотношения. Рассудок наш вспоминает события, но, кроме того, есть память сердца, обращенная к тому, что я когда-то переживал. Такая память — редкое явление. Чаще всего она не актуализируется, она — мертвый груз, но ее можно актуализировать.
Когда мы погружаемся в глубины своего духа, происходит совсем иное, чем когда мы пишем дневники и мемуары. Иногда одно с другим сочетается. Вот Герцен, лицо историческое, и он сам пишет историю — императоры, князья, журналы… Но в центре его истории все равно стоит измена жены. Оказывается, чем более я субъективен, тем больше я черпаю из колодца жизни. Попытка родить в себе начало сознательное, духовное — это второе рождение. И примеров тому много, они запечатлены в философии и литературе.
Мы знаем, что прошлое определяет настоящее. Но актуализированная память говорит об обратном. Я говорю, что настоящее определяет прошлое. Тот момент, который я сейчас переживаю, он вдруг совершенно другим светом освещает историю и мою прожитую жизнь. Настоящее открывает прошлое. Возникает явление вольтовой дуги, происходит соединение прошлого и настоящего. Еще студентом я читал «Жизнь Арсеньева» Бунина и прекрасно осознавал, что я этот роман не понимаю. Бунин пишет о младенческих воспоминаниях, воспоминаниях души — все это было для меня закрыто полностью. По Бунину, младенчество печально, потому что душа еще не до конца забыла, как до своего рождения испытывала блаженство. Бунин невероятно остро воспринимает жизнь, так, как не могут воспринимать большинство людей, которым бытие кажется монотонным, окрашенным в невыразительные серо-белые тона. А он воспринимал материальный мир с необычайной силой. У него бывали такие странные состояния сознания, когда он будто бы вспоминал не только свое настоящее, но еще и далекое прошлое за чертой собственного рождения. И когда он спросил о таких переживаниях Льва Толстого, тот ответил: я даже помню, как когда-то был козленком.
При этом есть люди, которые не учатся, не получают знания, а вспоминают их. Это факт, спорить с ним невозможно. Владимир Казимирович Шилейко, второй муж Анны Ахматовой, занимался Месопотамией, шумерами, древними, давно забытыми культурами. Поступив на восточный факультет, на третьем курсе он написал такую работу об ассиро-вавилонской культуре, что ее сразу же перевели на иностранные языки. За три года он начинает воспринимать культуру XV века до н.э. так глубоко, что его труды изучают специалисты, которые занимаются этим всю жизнь. И таких людей довольно много. Владимир Соловьев, Вячеслав Иванов, Андрей Белый, частично — Блок. Они что-то такое вспоминают, на что многие люди тратят годы. Вячеслав Иванов сказал: «Мне кажется, что сейчас наступает новая мифологическая эпоха. И я один из первых людей, которые чувствуют это начало». Но это чувство дано человеку, способному погрузиться в глубокое прошлое.
Лев Николаевич Толстой тоже был фантастически образован. Когда он писал «критику догматического богословия», он изучил древнееврейский, а когда увлекся Гомером, изучил древнегреческий, и все это в возрасте глубоко за 50. А сколько языков знал Вячеслав Иванов — это немыслимо. Он изучал культ Диониса, который имел большое значение в древней Греции, но книгу написал о Дионисе и прадионисийстве. Мы и о самом культе не так много знаем — а он занят предысторией этого культа.
Берега вечности и забвения
Тема памяти — главная в мировой философии и религии тоже. Если вы возьмете Библию и откроете симфонию, в которой указано, где и сколько раз употребляется каждое слово, вы увидите, что в Библии 32 раза употребляется слово память в разном контексте. В целом — это память Бога обо мне и моя память о Боге. Но это Библия. А кроме нее существовало огромное количество культур, где тема памяти всегда была центральной, к примеру, божественный Платон. Есть всем известное, но не всеми понимаемое высказывание о том, что всякое знание есть воспоминание. Вы сразу скажете, что я не могу вспомнить таблицу Менделеева, я должен ее выучить. Но здесь имеется в виду знание, которое определяет наше бытие, его смысл, наше восприятие мира. Вот это знание нужно вспомнить. Перед тем, как воплотиться, душа пребывала там, где царят гармония, красота и блаженство. А когда она воплотилась, забыла это состояние. Мы забыли состояние блаженства, но оно нам все-таки ведомо. Когда я воспринимаю красоту природы, когда я люблю, когда я занимаюсь творчеством, я вдруг испытываю такое состояние, которое приближает меня к воспоминанию о том, что я знал извечно.
У каждого из нас есть две вечности, одна — до рождения, а другая — после рождения. И можем ли мы проникнуть в за-бытие? Об этом думал Толстой, вслед за ним — Набоков, сказавший в «Других берегах»: «Колыбель качается над бездной…» Легко относятся к смерти либо верующие люди, либо полные атеисты. Но есть странные люди вроде Шекспира, которые задумываются, что будет сниться в смертном сне. Древние говорили, что философия существует исключительно для познания смерти.
С точки зрения физики и физиологии проникнуть в области за-бытия и пра-памяти мы, конечно, не можем. Но это если брать человека телесного, а если брать его сознание? Его можно определить как Tabula rasa — я родился и ничего не знаю, я как чистая доска, на которой пишут родители, общество, книжки и знания, которые я получаю. А может быть, знание наследуется, и мой мозг несет в себе следы прежних восприятий, прежних существований. И вот это надо вспомнить. Не про это ли греки говорят: «Познай самого себя»?
Как актуализировать память?
Почему наша память не живет, почему она так пассивна? Потому что мы погружены в реальную жизнь. У нас такое количество дел, и сделать их так необходимо, что заглянуть внутрь себя просто некогда. Мы очень любим общение, и сейчас оно становится беспрерывным. В таких условиях я ничего о себе не вспомню. Но отправьтесь, например, путешествовать в одиночку, и вы увидите, как появляется некоторая событийная сетка, причем очень необычная.
Умение быть наедине с собой, это очень важно. Также важно, как и услышать другого человека. Люди редко вступают в настоящий диалог, чаще каждый говорит о своем. Нужно выйти из этого замкнутого состояния. Но услышать другого, услышать мир, услышать искусство и природу — это способность, которая мало кому дана. Если хочешь ее получить, немного отойди от тех бесконечных забот, в которые ты погружен. Победи в себе отрицательные, негативные эмоции. Ведь даже простая попытка победить негативную эмоцию — это уже погружение внутрь себя. И если я не могу возлюбить врага своего, то могу хотя бы забыть его. Могу не испытывать к нему отрицательных эмоций. Это нелегко, но возможно.
Цифровая память, цифровая техника — это огромный прогресс, и я не собираюсь умалять достоинства прогресса. А теперь приведу пример из Островского. Феклуша в «Грозе» говорит: «Я видела паровоз, это дьявол. Я даже ноги видела». Казалось бы, Феклуша глупая странница, что с нее взять? Но теперь вспомните, как часто яркие трагические события, описанные в русской литературе, происходят на железной дороге. «Анна Каренина» или стихотворение Блока. Феклуша, оказывается, что-то чувствует. Начав строить железные дороги, мы резко увеличили скорость перемещения и до сих пор продолжаем всеми способами ее увеличивать. Во главе идеи прогресса стала идея скорости.
Теперь представьте себе, как делалась фотография. XIX век, богатый, образованный человек, покупает сложнейшую аппаратуру, знает химию, фотографирует. Он занимается кадрированием, экспозицией, работает с освещением. Теперь мы можем сделать тысячу фотографий за одну минуту, и 99% этой информации будет никому не нужно. У меня не смыкается эта фотография с моим прошлым. Фауст у Гете первым делом просит Мефистофеля показать ему все страны, которые ему интересны — одним разом. Это Гете предугадывает наши с вами времена. Огромное множество фотографий только утомляет мой и без того утомленный рассудок. Знаете, сколько книг было в библиотеке у Пертарки? 26 книг, они были рукописными. Во всяком прогрессе — огромный регресс, и никогда прогресса не бывает без потерь. Туристы подходят к храму и начинают фотографировать. Они сделали снимки и ушли, даже не задумавшись, что это возвышается перед ними. Сознание современного человека превратилось в огромный резервуар, до предела насытилось сведениями, которые мы все продолжаем поглощать и поглощать. Фантастический прогресс ведет к чудовищному регрессу сознания. Информация вытесняет память.
Alexey Pavperov
15 апреля 2015
Интервью для "Собака.ru"
Борис Аверин
Расскажите про ваше самое первое воспоминание детства.
Когда в юности я начал знакомиться с творчеством символистов, поначалу не понимал почти ни слова. А потом у Андрея Белого нашел этому объяснение: «Символизм непонятен тем, у кого нет личных мистических воспоминаний». И я задал себе вопрос, есть ли у меня такие воспоминания. Очень долго думал, и наконец в моем сознании всплыла картина: я где-то высоковысоко, внизу зеленое поле, которое ритмически колышется, как будто под музыку. И это ощущение абсолютного счастья. А потом вдруг картинка сужается, сужается, мне становится все хуже, а потом — совсем плохо. Я пытался понять, что это такое, и вспомнил другую картинку: стенка избы, скамейка стоит как-то странно под углом к стене. Стал расспрашивать маму, и она рассказала следующее. Когда мне было два с половиной года, она раздобыла муки и сделала мне пирожков. А до этого времени я не ел ничего, кроме грудного молока, потому что шла война и еды не было. Я наелся этих пирожков и умер. Мама увидела, что я лежу на скамейке и у меня странно висит рука. Потрогала, а рука холодная. Но за стенкой оказался врач — он колол укол за уколом, я постепенно оживал, и рушилась моя картина, где было «слишком много счастья».
Вашего отца арестовали вскоре после вашего рождения. Как вы впервые встретились?
Это был 1954 год, мне было двенадцать. Мама никогда ничего не говорила про отца. В школе никто не задавал вопроса «Кто у тебя папа?», потому что половина отцов погибла на фронте, а половина сидела в лагерях. И тут я пришел домой и увидел отца. Какое-то время привыкал к нему, потому что такое явление, как «папа», тогда было редкостью. Он был дворянин. Мой дед, почетный гражданин Санкт-Петербурга, владел шестиэтажным домом на Широкой, нынешней улице Ленина, а проводить службу в его домовой церкви приходил Иоанн Кронштадтский. Бабушка моя вторым браком вышла замуж за купца Елисеева, так что Елисеевский гастроном — моей бабушки. Недавно пришел туда и почувствовал, что мне там нравится!
Вы же по первому образованию геофизик, верно?
На геофизический факультет Арктического училища мне посоветовал поступать товарищ. В школе я ничему не научился вообще. Зато нас воспитывали, говорили: «Какова цель жизни? Принести пользу обществу». Я думал, что, в общем, это правильно, но что-то смущало. Как-то сказать себе, что я посвящу «всю свою жизнь делу освобождения рабочего класса», казалось нелепым: он и так свободный — ходит вон, выпивает. На четвертом курсе Арктического училища я надолго уехал на практику на Землю Франца-Иосифа и на зимовке прочел невероятное количество книг, потому что там была библиотека, вывезенная из особняка баронессы Икскуль. Одна из них — «Доктор Фаустус» Томаса Манна. Тогда эта книга показалась мне верхом интеллектуализма. К Томасу Манну я до сих пор отношусь хорошо, но так мне уже не кажется. Постепенно меня все больше стал занимать вопрос о соотношении рационального и иррационального в мире и человеке, о возможностях науки и о том, что для нее недоступно. Я вдруг разочаровался в точных дисциплинах, хотя уважение к ним никогда не исчезало. Но большинство точных дисциплин существуют каждая сама по себе, у них нет объединяющей теории, несмотря на то что существует молекулярная биология или математическая физика. И я подал документы на филологический факультет.
Гуманитарные науки открыли вам смысл жизни?
В науке этот ответ искать не надо. Все просто: нам дали душу, и мы должны ее сберечь и вернуть в целости и сохранности. Смысл даже не в том, чтобы помочь ближнему, — если сбережешь душу, то обязательно поможешь.
Вы публикуетесь уже сорок лет, а сборник ваших статей «От Толстого до Набокова» вышел только сейчас. Почему?
У меня не было желания переиздавать старые статьи. Горячим инициатором выступил мой издатель Михаил Ревзин. В один прекрасный день он сказал, что отступать некуда, грант на книгу уже получен. Статьи разделили на три части: русская классическая литература, XX век и Набоков. Приятно, что для публикации мне не пришлось вычеркивать никакой конъюнктуры. Потому что мы не лгали. Никаких ссылок на Ленина, на Маркса, мы даже не говорили о социальных проблемах Российского государства, мы говорили: «Социальное неблагообразие». Хорошо, правда? Солженицын нас научил «жить не по лжи»: не вступать в партию, не выступать на собраниях, не поддерживать всякие идиотские затеи, не ходить на агитационные демонстрации. Пассивное сопротивление! Нас не схватишь за руку, потому что мы ничего не делаем. Мы десятилетиями отступаем от лжи, в которой живем. Это правило действует до сих пор.
Борис Валентинович Аверин работает профессором на кафедре истории русской литературы филологического факультета Петербургского университета. Написал монографию «Дар Мнемозины» о романах Набокова. Занимался научным редактированием изданий Бунина и Набокова. Активно сотрудничает на телевидении и радио. Является председателем правления ассоциации «Живая классика».
Текст: Анастасия Принцева
Расскажите про ваше самое первое воспоминание детства.
Когда в юности я начал знакомиться с творчеством символистов, поначалу не понимал почти ни слова. А потом у Андрея Белого нашел этому объяснение: «Символизм непонятен тем, у кого нет личных мистических воспоминаний». И я задал себе вопрос, есть ли у меня такие воспоминания. Очень долго думал, и наконец в моем сознании всплыла картина: я где-то высоковысоко, внизу зеленое поле, которое ритмически колышется, как будто под музыку. И это ощущение абсолютного счастья. А потом вдруг картинка сужается, сужается, мне становится все хуже, а потом — совсем плохо. Я пытался понять, что это такое, и вспомнил другую картинку: стенка избы, скамейка стоит как-то странно под углом к стене. Стал расспрашивать маму, и она рассказала следующее. Когда мне было два с половиной года, она раздобыла муки и сделала мне пирожков. А до этого времени я не ел ничего, кроме грудного молока, потому что шла война и еды не было. Я наелся этих пирожков и умер. Мама увидела, что я лежу на скамейке и у меня странно висит рука. Потрогала, а рука холодная. Но за стенкой оказался врач — он колол укол за уколом, я постепенно оживал, и рушилась моя картина, где было «слишком много счастья».
Вашего отца арестовали вскоре после вашего рождения. Как вы впервые встретились?
Это был 1954 год, мне было двенадцать. Мама никогда ничего не говорила про отца. В школе никто не задавал вопроса «Кто у тебя папа?», потому что половина отцов погибла на фронте, а половина сидела в лагерях. И тут я пришел домой и увидел отца. Какое-то время привыкал к нему, потому что такое явление, как «папа», тогда было редкостью. Он был дворянин. Мой дед, почетный гражданин Санкт-Петербурга, владел шестиэтажным домом на Широкой, нынешней улице Ленина, а проводить службу в его домовой церкви приходил Иоанн Кронштадтский. Бабушка моя вторым браком вышла замуж за купца Елисеева, так что Елисеевский гастроном — моей бабушки. Недавно пришел туда и почувствовал, что мне там нравится!
Вы же по первому образованию геофизик, верно?
На геофизический факультет Арктического училища мне посоветовал поступать товарищ. В школе я ничему не научился вообще. Зато нас воспитывали, говорили: «Какова цель жизни? Принести пользу обществу». Я думал, что, в общем, это правильно, но что-то смущало. Как-то сказать себе, что я посвящу «всю свою жизнь делу освобождения рабочего класса», казалось нелепым: он и так свободный — ходит вон, выпивает. На четвертом курсе Арктического училища я надолго уехал на практику на Землю Франца-Иосифа и на зимовке прочел невероятное количество книг, потому что там была библиотека, вывезенная из особняка баронессы Икскуль. Одна из них — «Доктор Фаустус» Томаса Манна. Тогда эта книга показалась мне верхом интеллектуализма. К Томасу Манну я до сих пор отношусь хорошо, но так мне уже не кажется. Постепенно меня все больше стал занимать вопрос о соотношении рационального и иррационального в мире и человеке, о возможностях науки и о том, что для нее недоступно. Я вдруг разочаровался в точных дисциплинах, хотя уважение к ним никогда не исчезало. Но большинство точных дисциплин существуют каждая сама по себе, у них нет объединяющей теории, несмотря на то что существует молекулярная биология или математическая физика. И я подал документы на филологический факультет.
Гуманитарные науки открыли вам смысл жизни?
В науке этот ответ искать не надо. Все просто: нам дали душу, и мы должны ее сберечь и вернуть в целости и сохранности. Смысл даже не в том, чтобы помочь ближнему, — если сбережешь душу, то обязательно поможешь.
Вы публикуетесь уже сорок лет, а сборник ваших статей «От Толстого до Набокова» вышел только сейчас. Почему?
У меня не было желания переиздавать старые статьи. Горячим инициатором выступил мой издатель Михаил Ревзин. В один прекрасный день он сказал, что отступать некуда, грант на книгу уже получен. Статьи разделили на три части: русская классическая литература, XX век и Набоков. Приятно, что для публикации мне не пришлось вычеркивать никакой конъюнктуры. Потому что мы не лгали. Никаких ссылок на Ленина, на Маркса, мы даже не говорили о социальных проблемах Российского государства, мы говорили: «Социальное неблагообразие». Хорошо, правда? Солженицын нас научил «жить не по лжи»: не вступать в партию, не выступать на собраниях, не поддерживать всякие идиотские затеи, не ходить на агитационные демонстрации. Пассивное сопротивление! Нас не схватишь за руку, потому что мы ничего не делаем. Мы десятилетиями отступаем от лжи, в которой живем. Это правило действует до сих пор.
Борис Валентинович Аверин работает профессором на кафедре истории русской литературы филологического факультета Петербургского университета. Написал монографию «Дар Мнемозины» о романах Набокова. Занимался научным редактированием изданий Бунина и Набокова. Активно сотрудничает на телевидении и радио. Является председателем правления ассоциации «Живая классика».
Текст: Анастасия Принцева
Расшифровка интервью для авторской передачи Ивана Толстого на "Радио Свобода" 04 ноября 2018 - часть первая "Русской литературы не читал"
Беседа с профессором русской литературы Борисом Авериным
Иван Толстой: Борис Валентинович – легендарный преподаватель Петербургского университета, один из самых любимых лекторов филологического факультета. И так было уже давно. Лет сорок назад, когда я только поступил на филфак, мне в первый же день в курилке объяснили, на кого надо ходить. Фамилия Аверина возглавляла этот перечень.
Сухой и, что называется, поджарый, со слегка смеющимися глазами и улыбающийся, Борис Валентинович, немного раскрасневшийся от нескрываемой увлеченности русской литературой, напоминал слегка подвыпившего Александра Блока, которому, собственно, и был посвящен его спецкурс. И хотя речь ни о каком алкоголе не шла, трезвый профессор в советские времена, по моим представлениям, такой спецкурс читать бы не отважился. Но Аверин на филфаке говорил чуть ли не все, что считал нужным, – не прямыми словами, но речевыми оборотами и поворотами мысли, общей картиной нарисованной им эпохи и проблематики. Это была история русского символизма с философской подосновой, с Ницше и Владимиром Соловьевым, с Мережковским и прочими, казалось бы, неупоминаемыми именами.
Как это могло происходить? Куда смотрело начальство?
Вероятно, я сейчас немного сгущаю краски и всей этой запрещенности было не так уж много, но она была, а дальше ты начинал думать и читать сам. И это главный урок, преподносимый Борисом Авериным, – он подталкивал думать. Я так полюбил подвыпившего Блока, что ходил на его спецкурсы два года подряд – один раз записавшись официально, для зачета, а на следующий год – просто так, без всякой регистрации.
Игумнов сидел за одной партой с Лениным. Он отличался фантастической памятью, но удивительно, что он помнил весь класс, кроме своего соседа – какое-то серое пятно...
И вот теперь, сорок лет спустя, я у Бориса Валентиновича в гостях, в доме под Петербургом, около Стрельны. Место исторически значимое.
Борис Аверин: Это места знаменитой Троице-Сергиевой пустыни. Троице-Сергиева лавра известна во всем мире, а после Троице-Сергиевой лавры идет Троице-Сергиева пустынь, что в полутора километрах от моего дома. Петр I отдал это своим родственникам, Анна Иоанновна выписала духовника, строится Троице-Сергиева лавра, и он стал возглавлять Троице-Сергиеву пустынь. Она быстро развивалась и достигла процветания в 70–80-е годы 19-го века. Здесь или в Лавре похоронены дочка Кутузова, Горчаков. Пушкин однажды задал вопрос: кто будет тем последним лицеистом первого набора, который один будет отмечать лицейскую годовщину? Этим человеком был Горчаков. Он ставил рюмки за каждого лицеиста, произносил слова в лицейскую годовщину и был похоронен здесь. Но у нее, как у всех святых мест, очень сложная большевистская история. У большевиков было жуткое чутье на святость, как только они что-то такое видели, они сразу уничтожали. Прислали трактора и все могилы снесли. Не снесли только одну, могилу Горностаева, который построил Надвратную церковь здесь. Снесли и могилу Горчакова, и могилу дочки Кутузова. Взорвали храм.
Иван Толстой: А какую дочку? Елизавету Михайловну Хитрово?
Борис Аверин: Да. А храм Святой Троицы построил Трезини, а расписал Брюллов. Его взорвали на моих глазах. Это был 1957 год, когда Хрущев начинал вторую серию уничтожения оставшихся храмов. Но что интересно: у большевиков чутье на святость чудовищное, они превратили Троице-Сергиеву пустынь в Высшее училище ВОХРы. Вы думаете, что это просто внутренние войска? Нет, это специально обученные люди в подобных учебных заведениях, которые говорили, что у нас в стране не все хорошо, потому что есть внутренние враги, это самое страшное, и вот с ними нужно расправляться. И они ненавидели зэков политических. Это было искренне. Тамара Владиславовна Петкевич описывает, как ей дали буханку хлеба, потому что сейчас поведут зэков, доходяга один еле идет, и ему нужно эту буханку хлеба передать. Он должна была положить ее в сеточку и бросить, когда он подходил. Была весна, конец апреля, канавы широкие, вода и снег, и когда она бросала эту сеточку, она поскользнулась и упала в канаву. Это одно из самых страшных воспоминаний. ВОХРа смеялась, как эта женщина барахтается в канаве с водой. Почему это смешно?! Вот так были воспитаны люди, вот здесь, в святом месте, в Троице-Сергиевой пустыни. Потом этот поселок переименовали из Сергиево в Володарский. Вы знаете, кто такой Володарский?
Иван Толстой: Мост.
Борис Аверин: Есть замечательный писатель Сергей Носов, в "Петербургских памятниках" один из первых его очерков посвящен Володарскому, потому что о нем никто ничего не знает. В энциклопедии написано, что Володарского убил эсер. На самом деле его убил какой-то чахоточный еврей. Зачем он его убил – неизвестно. Но сейчас все опять переименовали, нет ни станции, ни поселка Володарского, сейчас все называется Сергиево. Священники трех наших храмов десять лет боролись за переименование и победили.
Это вы мне задаете сложный вопрос о том, где я живу.
А учителя мои первые были от страшного голода. Когда я приехал в Ленинград (у нас в семье говорили только Питер и Петербург), было холодно, голодно, очереди, карточки. И тут тяжело заболел мой старший брат, поэтому мама отправила меня в Мурманск к своей сестре. А у сестры был знаменитый муж Петр Петрович Игумнов, чей папа сидел за одной партой с Лениным. Этот Игумнов отличался фантастической памятью, он помнил все. И он говорил, что самое удивительное, что он помнит весь класс, кроме своего соседа, какое-то серое пятно. Ни слов, ни внешности, ничего не помнит. Для меня это – секрет.
Мне передали просьбу Собчака, чтобы я читал лекции о Ленине в Петербурге, потому что 53% были против переименования Ленинграда. И у меня везде висели афиши – "Жизнь и творчество Ленина". Я до сих пор вспоминаю Балтийский завод – огромный зал, огромный стол, покрытый красным сукном, сидят там партийные комитеты. Я выхожу читать лекцию про Ленина и начинаю цитировать Крупскую. А там такие ужасные вещи! И знаете, что случилось? Через двадцать минут после начала лекции зал стал наполовину пуст. Возмущенные слушатели! А я им про Игумнова рассказал.
И вот в Мурманске у родственников я впервые наелся, потому что все мое детство до семи лет это был беспрерывный голод.
Иван Толстой: Вас отправили в Мурманск откуда?
Борис Аверин: Из Петрограда.
Иван Толстой: Родились вы где?
Борис Аверин: Я родился в эвакуации. Мы беспрерывно двигались по Волге, уехали чуть ли не на Западную Украину, где бандеровцы расстреливали мою маму. Она у меня имела огромные карие глаза чуть на выкате, нос с горбинкой, потому что ее бабушка – полька, отец – хохол, а у меня отец – русский. Поэтому, когда мне всякие милые националисты говорят, что вы должны идентифицировать свою национальность, я говорю: "А черт его знает! Хочу – поляк, хочу – русский, хочу – украинец". Так вот, я родился в эвакуации, а в 1944 году арестовали отца, потому что у него при обыске нашли такой порочащий документ, вы даже себе представить не можете! У него нашли удостоверение, что он окончил юридический факультет Санкт-Петербургского Императорского университета.
Иван Толстой: Как Ленин.
Борис Аверин: Ленина вы сюда не припутывайте, он экстерном что-то сдавал, получил диплом, вел два дела, оба проиграл и больше никогда юридическими науками не занимался. А отец сразу после революции уехал в имение своей первой жены, дочери капельмейстера на шхуне Николая II "Штандарт". Она рано умерла, а у нее было огромное имение в Крыму. И папа там спрятался от революционных дел, даже написал книгу о Крыме. Я ее найти не могу, к сожалению, он фамилию не поставил, а по стилю трудно найти. Это была, судя по всему, интересная книжка.
Иван Толстой: А отец был журналист или историк?
Борис Аверин: Поначалу был юристом, а в советское время его пригласили в Ленинград и предложили место главного следователя железных дорог. Это же какие странные большевики! Уже бушует 1932 год, а они выпускнику Императорского университета предлагают должность главного следователя. Папа молчал как рыба, а мама рассказывала, что у него был заместитель Барабанов, папеньку с заместителем вызывают в горком или райком и говорят, что нельзя занимать подобные должности, не будучи в партии большевиков, ВКП(б). Они собрались. "Слушай, семья, дети, что будет, если мы этого не выполним?" Они встретились на следующий день и решили купить пол- литра водки, потому что дело серьезное. Купили, довольно быстро выкушали, потом вторую купили, вторую выкушали медленнее, а потом говорят: "Мы, дворяне, вступать в такое дерьмо трезвыми?" Они купили третью и никуда не пошли. Боря исчез через три дня, его больше никто не видел, а папеньку моего понизили, назначили начальником леспромхоза в село Вруда неподалеку, сто километров. Он сосны от елки не отличал, и конечно, его надували страшно.
В 1944 году его в очередной раз арестовали по поводу этой бумаги про Императорский университет, а в армию взять не могли по причине возраста, он был старше моей маменьки на 28 лет, я родился, когда ему было 56 лет. И я никогда не знал ничего про отца, мама не говорила ни слова, это было опасно, на работу ее не брали никуда как жену врага народа, 58-я статья. Как мы жили, я не знаю. У нас был небольшой клочок земли, мы картошку выращивали.
А теперь вернемся к Мурманску. Я там живу и возвращаюсь сюда, в Петергоф. У каждого человека есть бессознательное воспоминание о рае. Мурманск, конец мая, ноздреватый черный снег, вода, кошмар… И вдруг я приезжаю – ручьи, мосты, шлюзы, озера, искусственные горы, не просто лес, а аллеи! Рай! Вот тогда я, наконец, понял, что такое кантовский трансцендентальный субъект. Потому что это все природа. Вода в озерах, ручьях и речках была исключительно прозрачной, как ходит рыба стаями, прекрасно видно. Купаться нельзя было, потому что питьевой вольер. Вот это был мой учитель – природа. Но природа, облагороженная вот этим субъектом. Природа – это липы, деревья, но во все это человек вмешался – и мостик построил, и ручеек направил, и пруд вырыл с островом посередине. Я живу в этом месте, но я ничего о нем не знаю.
А в 1954 году появился у нас в доме высокий худощавый мужчина с густыми волосами, перец с солью. Я вначале не понимал, кто это такой, а потом я понял, что это мой отец. Первая встреча мне не запомнилась. Я помню, когда я начал задавать вопросы. В школе у меня были хорошие первые учителя. Местечко наше называется Заячий Ремиз. Это полтора километра от Самсона. Красота несказанная – аллеи, пруды, насыпные горы. И я задаю вопрос: почему такое название? Я спросил учительницу истории, она мне все Пелопоннесские войны преподавала. Я ее спросил, зачем я это должен знать, а она говорит, что всякое знание полезно. А про Заячий Ремиз она не знала ничего. И когда я спросил отца, он сказал, что это французское слово, карточный термин, но второе значение – место для охоты. Здесь Анна Иоанновна и Петр II охотились на зайцев. Я таких имен-то не знал! Для меня это пустой звук, я же советский ребенок. Битов правильно говорит, что у нас, у советских молодых людей, есть такое понятие, как "ностальгия по культуре", потому что мы были страшно серыми.
Вот мы с вами в прошлый раз беседовали, вы, оказывается, прочитали Набокова, когда вам было тринадцать лет, а я – когда пятьдесят. Это большая разница. Но нам все было запрещено. Какую слышать музыку, какие смотреть фильмы, какие читать книги – очень строго определялся наш круг чтения и культурного развития.
Иван Толстой: Тем не менее, Борис Валентинович, вы стали на филологическом факультете моим любимым преподавателем, еще не прочитав Набокова, я полюбил вас в донабоковский период!
Борис Аверин: Потому что вот у меня лежит Бунин, завтра у меня лекция о Бунине. Я приехал с зимовки, я – физик по образованию первому. Лотерея книжная на Литейном. А я всегда выигрывал в лотерею. Я купил билет за 25 копеек, и выигрываю пять рублей. Условие, что я за эти пять рублей должен купить книги. Я прихожу в "Дом книги", а там стоит пять томов Бунина, Твардовского издание, девятитомник, по 90 копеек за том. Это было ошеломительно! Я до этого Бунина не читал, а Бунин издавался худо-бедно. Во всяком случае, "Песнь о Гайавате" издавалась всегда, только не было написано, что ее перевел Бунин, потому что лучше не перевести. Вот такое было мое открытие Америки.
Мы были тупые и серые как сибирские валенки, но у нас было ощущение, что нас обманули, что нас лишили тех знаний, что мы должны были иметь. Но были исключения. Сергей Сергеевич Аверинцев, Иванов, которые знали латынь, греческий. Мой отец хорошо знал латынь, греческий, все европейские языки – он окончил гимназию, университет. И когда я его спросил, что такое "ремиз", он мне стразу же ответил. А затем оказалось, что он может ответить на любой вопрос именно потому, что он знает много языков. Я не понимаю, что такое гипотенуза. А гидрид, ангидрит? "Ну, голубчик, переведи слово "гидро" – "вода". "Ангидрид" это, наверное, вступает в реакцию с водой, скорее всего. А гипотенуза в переводе значит "наклон". И вот это до сих пор действует: я, если чего не знаю, смотрю этимологию слова, и все становится ясно. Все сложнейшие физические и технические термины легко переводятся. Вот оказался у меня учитель такой серьезный.
Первое – это природа, слегка измененная человеком. А потом появляется отец.
Иван Толстой: А еще немного расскажите об отце. Сколько он прожил?
Борис Аверин: Он прожил довольно долго, он умер в 82 года. Он был весьма крепкого здоровья, не болел никогда. Он, правда, немножко любил выпивать, и однажды, в возрасте 78 лет, в состоянии легкого опьянения, у нас мост есть, а внизу речка, метров десять до нее, а ограды нет, он пошатнулся и упал на камни в эту речку. Он полежал в этой воде, а вода прохладная – осень. Встал, пришел домой, дома потерял сознание. Маменька открывает дверь – лужа крови, потому что у него из головы течет кровь, перемешивается с водой и получается огромная лужа крови. А через десять дней уже все нормально. Но в 82 года надо было сделать легкую операцию, а врачи не рисковали, они боялись, что это будет смертельный случай, и из-за этого он умер.
А вот если говорить о страшных грехах, потому что у каждого человека есть грехи… Отец, отсидев десять лет, у них же правило, вы знаете: не верь, не бойся, не проси. Он никогда не обращался ни к кому с просьбами. И вот однажды я собираюсь ехать в архив в Москву, писать диссертацию, и я ему говорю, что послезавтра уезжаю. Он говорит: "Может, не поедешь?" Вот черт подери, мне же в голову не пришло, вот эта странная интонация человека, который никогда ничего не просит. Я говорю: "Ну как же, у меня там диссертация". Через четыре дня телеграмма – умер. Он предчувствовал. Ему хотелось, чтобы я был рядом. Вот это – страшный грех. Их много, но вот это – особенный.
Он жил долго, жил хорошо, но ничего не рассказывал о лагере. А мама рассказывала много. Дело в том, что еще в первую посадку… Лагерь, где он сидел, это город Свободный, стотысячный лагерь. Но город был и до лагеря, поэтому Свободный – это не выдумка большевиков, это так исторически получилось. Начальник лагеря был неграмотный. Ему сообщают, что едет инспекция. И в лагерях тоже проверяли, и ты мог из начальника быстро превратиться в зэка. Он призвал заместителя грамотного: "Инспекция едет, надо документы приводить в порядок, а я не знаю, как это делать". Тот говорит: "У нас тут столько юристов сидит!" И первый, на кого он вышел по алфавиту, это на моего папеньку. Он говорит: "Да, конечно!" И стал быстренько документы приводить в порядок. И вот что открылось. Это рассказывает мама. Оказалось, что на некоторых зэков нет документов. "Что делать?" – говорит дирекция. "Гнать, гнать!" И вот тут стали гнать.
Когда его назначили заниматься документами, спросили, что он хочет. Он говорит: "Хочу, чтобы жену привезли". И ему на территории лагеря построили избу, привезли мать, там родился мой брат, у него в паспорте написано, что год рождения 1939-й, город Свободный. А мама рассказывает, что иду я по лагерю и вдруг падает на колени передо мной мой соотечественник, хохол, и говорит: "Хозяйка, не заще сижу! Скажи мужу, чтобы он меня выпустил!" Рождалась легенда, что он выпускает. Никого он не выпускал, он мог выпустить только тех, на кого не было документов. Но это рассказывает мама, он ни слова не говорил.
А вот о жизни до революции он рассказывал. Он же был секретарем Санкт-Петербургско-Тульского поземельного банка. Работа у него была простая. Вот вы живете где-нибудь под Тулой и хотите заложить имение. Приезжаете в Петербург, вас знакомят с этим сотрудником, они идут в ресторан, сидят, договариваются, какие проценты, когда внести, что получится. Подписали, разошлись, взаимно довольны друг другом. Не сильная была работа. Он очень любил рассказывать, как они отдыхали в Финляндии. Ничего плохого никогда не говорил, но уже про советскую власть он помалкивал. Хотя я тут привожу некоторые его тексты, он очень любил поэзию, очень любил Жуковского. Я даже не знаю, откуда он его знал и где он добывал.
О, молю тебя, создатель,
Дай вблизи ее небесной,
Пред ее небесным взором
И гореть и умереть мне,
Как горит в немом блаженстве,
Тихо, ясно угасая,
Огнь смиренныя лампады
Пред небесною Мадонной.
Это были потрясающие стихи, и я что-то понимал. Хотя он любил и "Гром победы раздавайся", это я в его личном исполнении слушал, и всякие антисоветские частушки вроде Пуришкевича: "С красным знаменем вперед оголтелый прет народ".
Ему тоже досталось, потому что его не брали на работу. 1954 год, еще действуют законы. Потом ему удалось устроиться бить камень на дорогах черт знает в каком возрасте, а потом маменька устроилась на работу в газетный киоск, она продавала газеты. Она была замечательным преподавателем, между прочим. Я помню, мы с ней сидим на детской площадке, беседуем, а через десять минут все дети уже вокруг нас, и она с ними беседует. Они чувствовали. Тем не менее, она продавала газеты, а потом и отца туда устроила. Страшная работа, между прочим. Две-три копейки газета. Это фанерный киоск "Союзпечать". Зимой они мерзли, страдали. Папа был образованный, дай бог всякому, он Жуковского наизусть цитировал, а я запомнил.
Пошел летом сильный дождь, крыша протекла, залило библиотеку – погибло пять тысяч томов из библиотеки баронессы Икскуль
Первый учитель – это мастер Туволков, который сделал лучший в мире Озерковый парк, треть которого снесли полностью, так же как и снесли Колонистский парк, вырубили дубы трехсотлетние, липы. Они просто не знали, что это такое. Они думали, что Петергоф это Самсон, а Петергоф это восемь или девять парков, каждый из которых создавали люди типа Туволкова, лугового мастера. Вот это – учитель. Учитель – отец, учитель – Петергоф, город, в котором прошла вся моя жизнь и историей которого я долго занимался, Троице-Сергиева пустынь, в частности.
Были ли у меня в школе учителя? Да. В школе главный мой учитель был учитель физкультуры Арменок Егорович Айрапетов, чемпион Союза по гимнастике. У него словарный запас был слов пятьдесят, из них минимум тридцать – ненормативной лексики. Он нас воспитывал. Он подошел ко мне, говорит: "Ты – дистрофик. Ты иди в секцию спортивную, ты же бегать не умеешь!" Да, меня любая девочка обгоняет, я – кривой, косой. У меня в детстве были все заболевания, я голодал, до трех лет ничего не ел вообще. У меня был рахит, дистрофия, диспепсия. Как Джером Клапка Джером говорил: "У меня были все болезни, кроме родильной горячки и воды в колене".
Этот учитель заставил меня пойти в секцию. Так как я бегать все равно не научился по-настоящему, тренер сказал заниматься спортивной ходьбой. Поэтому я по железнодорожной насыпи от Старого Петергофа до Нового шел туда и обратно восемь километров по песку. После того как я так ходил в течение года, меня выставили на первенство города по спортивной ходьбе на пять километров. Я иду. Начинал с пятнадцатого места, потом седьмой, потом третий, и вот мне тренер кричит: "Не выходи на первое место!" А у меня силы немерено, я же по песку ходил, а тут – беговая дорожка. Почему не выходить? У меня же силы есть. И я вышел на первое место. И раздался голос из репродуктора: "Спортсмен номер такой-то снят с дистанции за переход на бег". Я подхожу к тренеру: "Почему?!" – "Понимаешь, должен выиграть ученик главного тренера". А ученик главного тренера шел первым, но тут я его обогнал – и меня сняли с дистанции. И вот так я впервые в девятом классе познал, что такое блат.
А главное, чему нас учил Арменок Егорович Айрапетов – он нас водил в походы. Представьте себе берег озера, садится солнце, Арменок Егорович сидит на берегу, смотрит на заходящее солнце и говорит: "Мать-перемать!" Это он выражает восторг, он глубоко чувствует красоту природы, но слов нет.
Школа у нас была не сильная, очень меня не любил учитель истории. "Я, – говорит, – тебя завалю на экзамене".
Иван Толстой: Почему?
Борис Аверин: А он что-то чувствует неродное в моем восприятии советской власти. Бессознательно отец на меня действовал. Например, слушает радио и вдруг засмеется: "Водитель метро выполнил тридцатилетку! Как водитель метро может выполнить? У него расписание! Там секунда в секунду". Я не понимаю этого, но понимаю, что что-то смешное говорят по радио. Это воспитывало, хотя бессознательно. Ну и, конечно, такое неприятие советской власти у меня было всегда. Не потому, что отец сидел. Потом оно стало осознанное, когда вырубали петергофские парки. Это же серость, которая не знает, что за этот дом, построенный для Николая I, Штакеншнейдер получил звание академика. А здесь – невероятной красоты гора, внизу – шлюз. Теперь там гараж. Никольский дом дважды горел, остались одни бревна от него.
Правда, бывало и наоборот. Помимо Заячьего Ремиза еще есть Александрия. Это рай земной – мосты, ручьи, деревья. А потом все покрылось зарослями. И вдруг начинается реставрация самой западной части Александрии. Я прихожу и узнаю детство! Восстановили мое детство, потому что именно так я это видел.
Ведь никто не заботился об этих парках, деревья гибли, образовывались дупла. А мои соотечественники очень любят культуру, и идя по аллее, любили нарвать сухой травы, засунуть в дупло и поджечь. И дерево падает. Ну, так интересно! Это три поколения атеистов, людей, которым никто не объяснял, что человек должен помогать природе, должен подчеркивать ее красоту, это его задача в мире, а не поджигать деревья. Таким образом, я прожил жизнь в музее, который уничтожался на моих глазах. И если Туволков – главный гидравлик, то Эрлер – главный садовник петербургских парков. Чего они там только ни напридумывали! Красота несказанная! А я думал, что так и положено.
Современные психологи говорят, что у ребенка, который ходит в школу в центре города, другая психология, чем у ребенка из Веселого поселка. Это правда. А что действует – не знаю. Я же не могу сказать, что я любуюсь архитектурой Петербурга. Да нет, тем более – в третьем классе. А действует бессознательно. Вот на меня это действовало все бессознательно, поэтому я с детства любил стихи про природу.
Это – самые ранние учителя.
А потом начинается геофизический факультет Арктического училища. Я, между прочим, живя в бесконечной бедности, работал и учился во дворцах. Например, геофизический факультет – это нынешний Константиновский дворец. Только не тот дворец, который сейчас, там евроремонт провели, а еще когда были остатки этого бело-голубого зала. Мне приятель предложил пойти посмотреть, что там. Когда я посмотрел на Константиновский дворец, прошелся по парку, я сказал, что я здесь буду учиться, мне нравится дворец.
Иван Толстой: А он тогда уже был этим училищем?
Борис Аверин: Первоначально в этом дворце беспризорных распределяли, и один из них вспоминает, как они из рогатки стреляли хрустальные подвески: бабахнешь, а она рассыпается. Красота! Воспоминания опубликованы. А когда я был, это уже были аудитории, а рядом были корпуса, спальни. И я там учился с большим успехом, потому что в детские годы я обладал очень хорошей памятью. Я читал книжку на лекциях и одновременно запоминал, что говорит учитель. А в группе меня не любили. Не то чтобы не любили, не было оснований, но я всегда был чужой в группе, потому что вольно или невольно я усваивал язык отца, а это совсем другой язык, чем язык советского молодого человека. Вот такой пример. Я шел по Литейному, портфелем задел человека и говорю: "Простите великодушно!" Отец никогда не говорил "извините", это дурной тон. Я верю, что вы человек великодушный, я вам причинил беспокойство, поэтому я говорю – "простите великодушно". А "извините" в Одессе гопники говорят. Он никогда не говорил "зарплата". Нет такого слова. Жалованье. Я не на работу собираюсь, я иду "на службу". На службе жалованье получают. И из-за этой неправильной речи меня недолюбливали.
Иван Толстой: А что, плюнул в спину вам прохожий?
Борис Аверин: Он меня как-то сложно обругал – нечего выкабениваться. Со мной не выпивали, не приглашали никуда.
Иван Толстой: А девушки?
Борис Аверин: А девушек у меня не было. А, нет! Мне в школе нравилась одна девушка, она на меня тоже посматривала, а потом она мне книгу подарила Антонины Коптяевой. Я прочел пять страниц и девушку разлюбил. Она не виновата в том, что есть писательница Антонина Коптяева. Я даже в энциклопедию залез – много написала, вообще популярная была писательница. А потом я уехал на зимовку и все связи прервались. А в училище у меня было два очень важных в моей биографии учителя. Один – учитель военной синоптики по фамилии Хрипливый. Чтобы сделать прогноз, надо посмотреть на синоптическую карту. Там, где такой изгиб есть, образуется циклон, он делится на холодный и теплый сектор, и мы предсказываем погоду. У нас есть шесть или семь предсказаний возникновения циклона. Но очень часто циклон предсказывается, но не возникает. Все наши представления о законах природы бесконечно приблизительны. Точного знания нет. У Набокова есть стихи под названием "Электричество", где он говорит, что электричество – это прекрасно: настольная лампа, трамвай, радио:
(…)
И вот – как прежде, неземная,
не наша, пролетаешь ты,
прорывы синие являя
непостижимой наготы.
И снова мир, как много сотен
глухих веков тому назад,
и неустойчив, и неплотен,
и Божьим пламенем объят.
Это что значит? Воспоминания Афанасьева прочите. Это представление о мире как о живом, о мире, который наполнен Богом и Божьим светом озарен. Вот эта молния – не наша, не земная, чужая. Это из космоса. Русские космисты вам известны. Благодаря геофизике мне стало понятно, что земля не могла возникнуть в ситуации, когда минус 273, абсолютный минимум, и давление атмосферы ноль. Космос пустой, там холод или жесткое корпускулярное излучение, где не выдерживает ничего живое. А как же возникла Земля? А вот Богородица стоит, а у нее в одеяльцах младенчик. Эта Земля окутывается атмосферой, а затем озонным слоем, который не пропускает жесткое излучение солнца, она вся в пеленочках. И как они возникли? А черт-те знает как. Никто никогда не скажет, как возникла наша Земля. Синоптика чрезвычайно была для меня важна для понимания относительности наших знаний.
Иван Толстой: А вы с тех пор, посмотрев на небо, можете предсказать погоду?
Борис Аверин: Могу. Я предсказываю все время. У меня сын, когда ему было восемь лет, верил, что я не только могу предсказать погоду, я могу ее заказать. Когда я кого-то приглашал в гости, мне говорили, что погода плохая, а я говорил, что "я устрою", он верил, что я могу. Сын лезет в интернет, берет зонтик: "Мне сказали, что дождь будет". – "Не будет. Видишь барометр? Выросло на восемь миллибаров. Если и будет дождь, то через сутки". Он берет зонтик. Идеальная погода. Не может быть, если давление растет, ясное небо. А прогноз в интернете так и шлепают. Мой брат лучше поступает: он берет четыре прогноза, выбирает самый лучший.
Иван Толстой: Почему? Если Борис Валентинович Аверин может такими несложными инструментами?
Борис Аверин: У них, по-моему, нет барометра. Они не сморят. Еще у меня была учительница Вера Иосифовна Волкович, аэрологию преподавала. Я был по профессии аэролог, это распределение метеоэлементов, то есть давление, температура, влажность, скорость и направление ветра по высоте от нуля до тридцати километров. И вот когда я приехал на зимовку в конце октября, приходит телеграмма из Москвы, из министерства обороны, но не приказная, а они просят, чтобы сведения, которые мы поставляем о распределении метеоэлементов по высоте, были приблизительно точными. Просит! Дело в том, что у нас не было даже батареек карманных плоских, мы заливали каким-то раствором баллончики, потому что радиозонд должен вращаться с помощью электричества, а электричество мы сами изготовляли. То есть это была такая чудовищная техническая отсталость! А локатор, на котором мы работали, сделан был в конце 1920-х годов, это примитив – мы штурвалом вращали антенну и наводили на этот радиозонд. Радиозонд у нас обычно достигал высоты семи-десяти километров, а они просят до тридцати. Они знают, что мы клеим липу. Один зонд пролетел высоко, а мы потом экстраполируем.
Дело было очень серьезное, готовился самый мощный в истории мира взрыв водородной бомбы. А вот вы теперь спрашиваете меня, где выпадут радиоактивные осадки? Оказывается, в атмосфере наверху есть так называемые струйные течения. Это такая труба в атмосфере, в которой скорость ветра значительно больше, чем в окружающей атмосфере, и эти трубы в самых разных направлениях. Оказывается, есть трубы, которые в Гренландию ведут. Мы же взрываем в атмосфере, это чудовищное преступление против цивилизации, специалисты говорят. Я-то всего этого не знаю, это было секретно. Хотя я и был на атомном полигоне на Новой Земле, и у нас ледники лопались, когда взрывали в тысяче километров. Специалисты говорят, что взрывная волна трижды проходила по всему земному шару. Но, как говорили мне, радиоактивные осадки выпали в центре Гренландии, где мы с вами не живем и где они будут лежать лет шестьсот, в отличие от Чернобыля. Правда, те, кто остались, они довольны, у них там быки с двумя головами рождаются.
Иван Толстой: Говорят, Красная книга наполовину там восстановилась.
Борис Аверин: Это было в половине октября, солнце уже не выходило из-за горизонта – это называется гражданские сумерки, оно там два-три градуса под горизонтом, то есть светло, но это сумерки. И нас предупредили, что мы должны лечь ногами к эпицентру, но мы не знаем, где центр и где эпицентр, кругом – Северный полюс. Мы перед этим выскочили и играли в футбол по насту, а потом вдруг из-за горизонта встает какой-то страшный луч солнца, и нам всем становится не по себе. Мы играли в футбол, веселились, а собаки вдруг сбились в кучу и куда-то побежали. Они вернулись только через трое суток. А мы слышим звук лопающихся ледников. Земля Франца Иосифа состоит из большого количества островов – внизу там немножко земли, а так это ледник. Вот эти ледники лопались из-за взрывной волны в тысяче километров от нас. Я вам скажу больше, на Камчатке лежали ногами к эпицентру, а это еще дальше, чем мы. Никто не знал последствий этого чудовищного взрыва, их потом еще несколько было, мы этого просто не знали.
Иван Толстой: Какой год на дворе?
Борис Аверин: 1961-й.
Иван Толстой: И в 1961 году неужели ни один физик вам не скажет, что это за последствия?
Борис Аверин: Физик, может, и скажет, а Политбюро свое мнение имеет.
Иван Толстой: Конечно, надо же показать этим американцам. Тогда-то Хрущев и говорил про кузькину мать.
Борис Аверин: Это к тому, что зимовка, где я был в первый раз, у нас там была огромная библиотека. А я, уже закончив геофизический факультет, поступил на заочное отделение филологического факультета.
Иван Толстой: Вы уже начали "переметаться".
Борис Аверин: Да, и как это объяснить? Потому что с какой стати мне нужна вся эта филология? Потому что я – геофизик, я отделом заведовал в Арктическом научно-исследовательском институте, у меня было много почетных предложений. Я вообще хотел в Антарктиду. Не потому, что мне нужна Антарктида, а потому что кругосветное путешествие, а охота к перемене мест – весьма мучительное свойство, немногих добровольный крест.
А потом меня вызвал директор института, говорит: "Я читаю ваше личное дело. Очень странно. Вы заведуете отделом, что-то пишете, даже написали физико-географическое описание Земли Франца Иосифа, а учитесь на филологическом факультете. Это зачем?" – "Я люблю изучать языки". – "Извините, – он улыбнулся, – но вы учитесь на русском отделении".
На зимовке у нас была библиотека – пять тысяч томов из библиотеки баронессы Икскуль. Второе издание "Путешествия из Петербурга в Москву". Это фантастика! И нет бы мне увести все это, хоть бы экземплярчиков пятьдесят! Честность нехорошая была. Они погибли все – пошел летом сильный дождь, крыша протекла, залило библиотеку, а потом – мороз и тут же все разорвалось, все эти книги выбросили. Я только взял одну поганую книжку "Мастерство Гоголя" Храпченко. Ее никто не читал, а мне надо было что-то сдавать. Хотя говорят, что там писали аспиранты и некоторые места очень хорошие, но я не дочитал до таких мест. И вот на зимовке я и начал читать русскую литературу. Потому что после школы я русскую литературу не читал.
Иван Толстой: Борис Валентинович – легендарный преподаватель Петербургского университета, один из самых любимых лекторов филологического факультета. И так было уже давно. Лет сорок назад, когда я только поступил на филфак, мне в первый же день в курилке объяснили, на кого надо ходить. Фамилия Аверина возглавляла этот перечень.
Сухой и, что называется, поджарый, со слегка смеющимися глазами и улыбающийся, Борис Валентинович, немного раскрасневшийся от нескрываемой увлеченности русской литературой, напоминал слегка подвыпившего Александра Блока, которому, собственно, и был посвящен его спецкурс. И хотя речь ни о каком алкоголе не шла, трезвый профессор в советские времена, по моим представлениям, такой спецкурс читать бы не отважился. Но Аверин на филфаке говорил чуть ли не все, что считал нужным, – не прямыми словами, но речевыми оборотами и поворотами мысли, общей картиной нарисованной им эпохи и проблематики. Это была история русского символизма с философской подосновой, с Ницше и Владимиром Соловьевым, с Мережковским и прочими, казалось бы, неупоминаемыми именами.
Как это могло происходить? Куда смотрело начальство?
Вероятно, я сейчас немного сгущаю краски и всей этой запрещенности было не так уж много, но она была, а дальше ты начинал думать и читать сам. И это главный урок, преподносимый Борисом Авериным, – он подталкивал думать. Я так полюбил подвыпившего Блока, что ходил на его спецкурсы два года подряд – один раз записавшись официально, для зачета, а на следующий год – просто так, без всякой регистрации.
Игумнов сидел за одной партой с Лениным. Он отличался фантастической памятью, но удивительно, что он помнил весь класс, кроме своего соседа – какое-то серое пятно...
И вот теперь, сорок лет спустя, я у Бориса Валентиновича в гостях, в доме под Петербургом, около Стрельны. Место исторически значимое.
Борис Аверин: Это места знаменитой Троице-Сергиевой пустыни. Троице-Сергиева лавра известна во всем мире, а после Троице-Сергиевой лавры идет Троице-Сергиева пустынь, что в полутора километрах от моего дома. Петр I отдал это своим родственникам, Анна Иоанновна выписала духовника, строится Троице-Сергиева лавра, и он стал возглавлять Троице-Сергиеву пустынь. Она быстро развивалась и достигла процветания в 70–80-е годы 19-го века. Здесь или в Лавре похоронены дочка Кутузова, Горчаков. Пушкин однажды задал вопрос: кто будет тем последним лицеистом первого набора, который один будет отмечать лицейскую годовщину? Этим человеком был Горчаков. Он ставил рюмки за каждого лицеиста, произносил слова в лицейскую годовщину и был похоронен здесь. Но у нее, как у всех святых мест, очень сложная большевистская история. У большевиков было жуткое чутье на святость, как только они что-то такое видели, они сразу уничтожали. Прислали трактора и все могилы снесли. Не снесли только одну, могилу Горностаева, который построил Надвратную церковь здесь. Снесли и могилу Горчакова, и могилу дочки Кутузова. Взорвали храм.
Иван Толстой: А какую дочку? Елизавету Михайловну Хитрово?
Борис Аверин: Да. А храм Святой Троицы построил Трезини, а расписал Брюллов. Его взорвали на моих глазах. Это был 1957 год, когда Хрущев начинал вторую серию уничтожения оставшихся храмов. Но что интересно: у большевиков чутье на святость чудовищное, они превратили Троице-Сергиеву пустынь в Высшее училище ВОХРы. Вы думаете, что это просто внутренние войска? Нет, это специально обученные люди в подобных учебных заведениях, которые говорили, что у нас в стране не все хорошо, потому что есть внутренние враги, это самое страшное, и вот с ними нужно расправляться. И они ненавидели зэков политических. Это было искренне. Тамара Владиславовна Петкевич описывает, как ей дали буханку хлеба, потому что сейчас поведут зэков, доходяга один еле идет, и ему нужно эту буханку хлеба передать. Он должна была положить ее в сеточку и бросить, когда он подходил. Была весна, конец апреля, канавы широкие, вода и снег, и когда она бросала эту сеточку, она поскользнулась и упала в канаву. Это одно из самых страшных воспоминаний. ВОХРа смеялась, как эта женщина барахтается в канаве с водой. Почему это смешно?! Вот так были воспитаны люди, вот здесь, в святом месте, в Троице-Сергиевой пустыни. Потом этот поселок переименовали из Сергиево в Володарский. Вы знаете, кто такой Володарский?
Иван Толстой: Мост.
Борис Аверин: Есть замечательный писатель Сергей Носов, в "Петербургских памятниках" один из первых его очерков посвящен Володарскому, потому что о нем никто ничего не знает. В энциклопедии написано, что Володарского убил эсер. На самом деле его убил какой-то чахоточный еврей. Зачем он его убил – неизвестно. Но сейчас все опять переименовали, нет ни станции, ни поселка Володарского, сейчас все называется Сергиево. Священники трех наших храмов десять лет боролись за переименование и победили.
Это вы мне задаете сложный вопрос о том, где я живу.
А учителя мои первые были от страшного голода. Когда я приехал в Ленинград (у нас в семье говорили только Питер и Петербург), было холодно, голодно, очереди, карточки. И тут тяжело заболел мой старший брат, поэтому мама отправила меня в Мурманск к своей сестре. А у сестры был знаменитый муж Петр Петрович Игумнов, чей папа сидел за одной партой с Лениным. Этот Игумнов отличался фантастической памятью, он помнил все. И он говорил, что самое удивительное, что он помнит весь класс, кроме своего соседа, какое-то серое пятно. Ни слов, ни внешности, ничего не помнит. Для меня это – секрет.
Мне передали просьбу Собчака, чтобы я читал лекции о Ленине в Петербурге, потому что 53% были против переименования Ленинграда. И у меня везде висели афиши – "Жизнь и творчество Ленина". Я до сих пор вспоминаю Балтийский завод – огромный зал, огромный стол, покрытый красным сукном, сидят там партийные комитеты. Я выхожу читать лекцию про Ленина и начинаю цитировать Крупскую. А там такие ужасные вещи! И знаете, что случилось? Через двадцать минут после начала лекции зал стал наполовину пуст. Возмущенные слушатели! А я им про Игумнова рассказал.
И вот в Мурманске у родственников я впервые наелся, потому что все мое детство до семи лет это был беспрерывный голод.
Иван Толстой: Вас отправили в Мурманск откуда?
Борис Аверин: Из Петрограда.
Иван Толстой: Родились вы где?
Борис Аверин: Я родился в эвакуации. Мы беспрерывно двигались по Волге, уехали чуть ли не на Западную Украину, где бандеровцы расстреливали мою маму. Она у меня имела огромные карие глаза чуть на выкате, нос с горбинкой, потому что ее бабушка – полька, отец – хохол, а у меня отец – русский. Поэтому, когда мне всякие милые националисты говорят, что вы должны идентифицировать свою национальность, я говорю: "А черт его знает! Хочу – поляк, хочу – русский, хочу – украинец". Так вот, я родился в эвакуации, а в 1944 году арестовали отца, потому что у него при обыске нашли такой порочащий документ, вы даже себе представить не можете! У него нашли удостоверение, что он окончил юридический факультет Санкт-Петербургского Императорского университета.
Иван Толстой: Как Ленин.
Борис Аверин: Ленина вы сюда не припутывайте, он экстерном что-то сдавал, получил диплом, вел два дела, оба проиграл и больше никогда юридическими науками не занимался. А отец сразу после революции уехал в имение своей первой жены, дочери капельмейстера на шхуне Николая II "Штандарт". Она рано умерла, а у нее было огромное имение в Крыму. И папа там спрятался от революционных дел, даже написал книгу о Крыме. Я ее найти не могу, к сожалению, он фамилию не поставил, а по стилю трудно найти. Это была, судя по всему, интересная книжка.
Иван Толстой: А отец был журналист или историк?
Борис Аверин: Поначалу был юристом, а в советское время его пригласили в Ленинград и предложили место главного следователя железных дорог. Это же какие странные большевики! Уже бушует 1932 год, а они выпускнику Императорского университета предлагают должность главного следователя. Папа молчал как рыба, а мама рассказывала, что у него был заместитель Барабанов, папеньку с заместителем вызывают в горком или райком и говорят, что нельзя занимать подобные должности, не будучи в партии большевиков, ВКП(б). Они собрались. "Слушай, семья, дети, что будет, если мы этого не выполним?" Они встретились на следующий день и решили купить пол- литра водки, потому что дело серьезное. Купили, довольно быстро выкушали, потом вторую купили, вторую выкушали медленнее, а потом говорят: "Мы, дворяне, вступать в такое дерьмо трезвыми?" Они купили третью и никуда не пошли. Боря исчез через три дня, его больше никто не видел, а папеньку моего понизили, назначили начальником леспромхоза в село Вруда неподалеку, сто километров. Он сосны от елки не отличал, и конечно, его надували страшно.
В 1944 году его в очередной раз арестовали по поводу этой бумаги про Императорский университет, а в армию взять не могли по причине возраста, он был старше моей маменьки на 28 лет, я родился, когда ему было 56 лет. И я никогда не знал ничего про отца, мама не говорила ни слова, это было опасно, на работу ее не брали никуда как жену врага народа, 58-я статья. Как мы жили, я не знаю. У нас был небольшой клочок земли, мы картошку выращивали.
А теперь вернемся к Мурманску. Я там живу и возвращаюсь сюда, в Петергоф. У каждого человека есть бессознательное воспоминание о рае. Мурманск, конец мая, ноздреватый черный снег, вода, кошмар… И вдруг я приезжаю – ручьи, мосты, шлюзы, озера, искусственные горы, не просто лес, а аллеи! Рай! Вот тогда я, наконец, понял, что такое кантовский трансцендентальный субъект. Потому что это все природа. Вода в озерах, ручьях и речках была исключительно прозрачной, как ходит рыба стаями, прекрасно видно. Купаться нельзя было, потому что питьевой вольер. Вот это был мой учитель – природа. Но природа, облагороженная вот этим субъектом. Природа – это липы, деревья, но во все это человек вмешался – и мостик построил, и ручеек направил, и пруд вырыл с островом посередине. Я живу в этом месте, но я ничего о нем не знаю.
А в 1954 году появился у нас в доме высокий худощавый мужчина с густыми волосами, перец с солью. Я вначале не понимал, кто это такой, а потом я понял, что это мой отец. Первая встреча мне не запомнилась. Я помню, когда я начал задавать вопросы. В школе у меня были хорошие первые учителя. Местечко наше называется Заячий Ремиз. Это полтора километра от Самсона. Красота несказанная – аллеи, пруды, насыпные горы. И я задаю вопрос: почему такое название? Я спросил учительницу истории, она мне все Пелопоннесские войны преподавала. Я ее спросил, зачем я это должен знать, а она говорит, что всякое знание полезно. А про Заячий Ремиз она не знала ничего. И когда я спросил отца, он сказал, что это французское слово, карточный термин, но второе значение – место для охоты. Здесь Анна Иоанновна и Петр II охотились на зайцев. Я таких имен-то не знал! Для меня это пустой звук, я же советский ребенок. Битов правильно говорит, что у нас, у советских молодых людей, есть такое понятие, как "ностальгия по культуре", потому что мы были страшно серыми.
Вот мы с вами в прошлый раз беседовали, вы, оказывается, прочитали Набокова, когда вам было тринадцать лет, а я – когда пятьдесят. Это большая разница. Но нам все было запрещено. Какую слышать музыку, какие смотреть фильмы, какие читать книги – очень строго определялся наш круг чтения и культурного развития.
Иван Толстой: Тем не менее, Борис Валентинович, вы стали на филологическом факультете моим любимым преподавателем, еще не прочитав Набокова, я полюбил вас в донабоковский период!
Борис Аверин: Потому что вот у меня лежит Бунин, завтра у меня лекция о Бунине. Я приехал с зимовки, я – физик по образованию первому. Лотерея книжная на Литейном. А я всегда выигрывал в лотерею. Я купил билет за 25 копеек, и выигрываю пять рублей. Условие, что я за эти пять рублей должен купить книги. Я прихожу в "Дом книги", а там стоит пять томов Бунина, Твардовского издание, девятитомник, по 90 копеек за том. Это было ошеломительно! Я до этого Бунина не читал, а Бунин издавался худо-бедно. Во всяком случае, "Песнь о Гайавате" издавалась всегда, только не было написано, что ее перевел Бунин, потому что лучше не перевести. Вот такое было мое открытие Америки.
Мы были тупые и серые как сибирские валенки, но у нас было ощущение, что нас обманули, что нас лишили тех знаний, что мы должны были иметь. Но были исключения. Сергей Сергеевич Аверинцев, Иванов, которые знали латынь, греческий. Мой отец хорошо знал латынь, греческий, все европейские языки – он окончил гимназию, университет. И когда я его спросил, что такое "ремиз", он мне стразу же ответил. А затем оказалось, что он может ответить на любой вопрос именно потому, что он знает много языков. Я не понимаю, что такое гипотенуза. А гидрид, ангидрит? "Ну, голубчик, переведи слово "гидро" – "вода". "Ангидрид" это, наверное, вступает в реакцию с водой, скорее всего. А гипотенуза в переводе значит "наклон". И вот это до сих пор действует: я, если чего не знаю, смотрю этимологию слова, и все становится ясно. Все сложнейшие физические и технические термины легко переводятся. Вот оказался у меня учитель такой серьезный.
Первое – это природа, слегка измененная человеком. А потом появляется отец.
Иван Толстой: А еще немного расскажите об отце. Сколько он прожил?
Борис Аверин: Он прожил довольно долго, он умер в 82 года. Он был весьма крепкого здоровья, не болел никогда. Он, правда, немножко любил выпивать, и однажды, в возрасте 78 лет, в состоянии легкого опьянения, у нас мост есть, а внизу речка, метров десять до нее, а ограды нет, он пошатнулся и упал на камни в эту речку. Он полежал в этой воде, а вода прохладная – осень. Встал, пришел домой, дома потерял сознание. Маменька открывает дверь – лужа крови, потому что у него из головы течет кровь, перемешивается с водой и получается огромная лужа крови. А через десять дней уже все нормально. Но в 82 года надо было сделать легкую операцию, а врачи не рисковали, они боялись, что это будет смертельный случай, и из-за этого он умер.
А вот если говорить о страшных грехах, потому что у каждого человека есть грехи… Отец, отсидев десять лет, у них же правило, вы знаете: не верь, не бойся, не проси. Он никогда не обращался ни к кому с просьбами. И вот однажды я собираюсь ехать в архив в Москву, писать диссертацию, и я ему говорю, что послезавтра уезжаю. Он говорит: "Может, не поедешь?" Вот черт подери, мне же в голову не пришло, вот эта странная интонация человека, который никогда ничего не просит. Я говорю: "Ну как же, у меня там диссертация". Через четыре дня телеграмма – умер. Он предчувствовал. Ему хотелось, чтобы я был рядом. Вот это – страшный грех. Их много, но вот это – особенный.
Он жил долго, жил хорошо, но ничего не рассказывал о лагере. А мама рассказывала много. Дело в том, что еще в первую посадку… Лагерь, где он сидел, это город Свободный, стотысячный лагерь. Но город был и до лагеря, поэтому Свободный – это не выдумка большевиков, это так исторически получилось. Начальник лагеря был неграмотный. Ему сообщают, что едет инспекция. И в лагерях тоже проверяли, и ты мог из начальника быстро превратиться в зэка. Он призвал заместителя грамотного: "Инспекция едет, надо документы приводить в порядок, а я не знаю, как это делать". Тот говорит: "У нас тут столько юристов сидит!" И первый, на кого он вышел по алфавиту, это на моего папеньку. Он говорит: "Да, конечно!" И стал быстренько документы приводить в порядок. И вот что открылось. Это рассказывает мама. Оказалось, что на некоторых зэков нет документов. "Что делать?" – говорит дирекция. "Гнать, гнать!" И вот тут стали гнать.
Когда его назначили заниматься документами, спросили, что он хочет. Он говорит: "Хочу, чтобы жену привезли". И ему на территории лагеря построили избу, привезли мать, там родился мой брат, у него в паспорте написано, что год рождения 1939-й, город Свободный. А мама рассказывает, что иду я по лагерю и вдруг падает на колени передо мной мой соотечественник, хохол, и говорит: "Хозяйка, не заще сижу! Скажи мужу, чтобы он меня выпустил!" Рождалась легенда, что он выпускает. Никого он не выпускал, он мог выпустить только тех, на кого не было документов. Но это рассказывает мама, он ни слова не говорил.
А вот о жизни до революции он рассказывал. Он же был секретарем Санкт-Петербургско-Тульского поземельного банка. Работа у него была простая. Вот вы живете где-нибудь под Тулой и хотите заложить имение. Приезжаете в Петербург, вас знакомят с этим сотрудником, они идут в ресторан, сидят, договариваются, какие проценты, когда внести, что получится. Подписали, разошлись, взаимно довольны друг другом. Не сильная была работа. Он очень любил рассказывать, как они отдыхали в Финляндии. Ничего плохого никогда не говорил, но уже про советскую власть он помалкивал. Хотя я тут привожу некоторые его тексты, он очень любил поэзию, очень любил Жуковского. Я даже не знаю, откуда он его знал и где он добывал.
О, молю тебя, создатель,
Дай вблизи ее небесной,
Пред ее небесным взором
И гореть и умереть мне,
Как горит в немом блаженстве,
Тихо, ясно угасая,
Огнь смиренныя лампады
Пред небесною Мадонной.
Это были потрясающие стихи, и я что-то понимал. Хотя он любил и "Гром победы раздавайся", это я в его личном исполнении слушал, и всякие антисоветские частушки вроде Пуришкевича: "С красным знаменем вперед оголтелый прет народ".
Ему тоже досталось, потому что его не брали на работу. 1954 год, еще действуют законы. Потом ему удалось устроиться бить камень на дорогах черт знает в каком возрасте, а потом маменька устроилась на работу в газетный киоск, она продавала газеты. Она была замечательным преподавателем, между прочим. Я помню, мы с ней сидим на детской площадке, беседуем, а через десять минут все дети уже вокруг нас, и она с ними беседует. Они чувствовали. Тем не менее, она продавала газеты, а потом и отца туда устроила. Страшная работа, между прочим. Две-три копейки газета. Это фанерный киоск "Союзпечать". Зимой они мерзли, страдали. Папа был образованный, дай бог всякому, он Жуковского наизусть цитировал, а я запомнил.
Пошел летом сильный дождь, крыша протекла, залило библиотеку – погибло пять тысяч томов из библиотеки баронессы Икскуль
Первый учитель – это мастер Туволков, который сделал лучший в мире Озерковый парк, треть которого снесли полностью, так же как и снесли Колонистский парк, вырубили дубы трехсотлетние, липы. Они просто не знали, что это такое. Они думали, что Петергоф это Самсон, а Петергоф это восемь или девять парков, каждый из которых создавали люди типа Туволкова, лугового мастера. Вот это – учитель. Учитель – отец, учитель – Петергоф, город, в котором прошла вся моя жизнь и историей которого я долго занимался, Троице-Сергиева пустынь, в частности.
Были ли у меня в школе учителя? Да. В школе главный мой учитель был учитель физкультуры Арменок Егорович Айрапетов, чемпион Союза по гимнастике. У него словарный запас был слов пятьдесят, из них минимум тридцать – ненормативной лексики. Он нас воспитывал. Он подошел ко мне, говорит: "Ты – дистрофик. Ты иди в секцию спортивную, ты же бегать не умеешь!" Да, меня любая девочка обгоняет, я – кривой, косой. У меня в детстве были все заболевания, я голодал, до трех лет ничего не ел вообще. У меня был рахит, дистрофия, диспепсия. Как Джером Клапка Джером говорил: "У меня были все болезни, кроме родильной горячки и воды в колене".
Этот учитель заставил меня пойти в секцию. Так как я бегать все равно не научился по-настоящему, тренер сказал заниматься спортивной ходьбой. Поэтому я по железнодорожной насыпи от Старого Петергофа до Нового шел туда и обратно восемь километров по песку. После того как я так ходил в течение года, меня выставили на первенство города по спортивной ходьбе на пять километров. Я иду. Начинал с пятнадцатого места, потом седьмой, потом третий, и вот мне тренер кричит: "Не выходи на первое место!" А у меня силы немерено, я же по песку ходил, а тут – беговая дорожка. Почему не выходить? У меня же силы есть. И я вышел на первое место. И раздался голос из репродуктора: "Спортсмен номер такой-то снят с дистанции за переход на бег". Я подхожу к тренеру: "Почему?!" – "Понимаешь, должен выиграть ученик главного тренера". А ученик главного тренера шел первым, но тут я его обогнал – и меня сняли с дистанции. И вот так я впервые в девятом классе познал, что такое блат.
А главное, чему нас учил Арменок Егорович Айрапетов – он нас водил в походы. Представьте себе берег озера, садится солнце, Арменок Егорович сидит на берегу, смотрит на заходящее солнце и говорит: "Мать-перемать!" Это он выражает восторг, он глубоко чувствует красоту природы, но слов нет.
Школа у нас была не сильная, очень меня не любил учитель истории. "Я, – говорит, – тебя завалю на экзамене".
Иван Толстой: Почему?
Борис Аверин: А он что-то чувствует неродное в моем восприятии советской власти. Бессознательно отец на меня действовал. Например, слушает радио и вдруг засмеется: "Водитель метро выполнил тридцатилетку! Как водитель метро может выполнить? У него расписание! Там секунда в секунду". Я не понимаю этого, но понимаю, что что-то смешное говорят по радио. Это воспитывало, хотя бессознательно. Ну и, конечно, такое неприятие советской власти у меня было всегда. Не потому, что отец сидел. Потом оно стало осознанное, когда вырубали петергофские парки. Это же серость, которая не знает, что за этот дом, построенный для Николая I, Штакеншнейдер получил звание академика. А здесь – невероятной красоты гора, внизу – шлюз. Теперь там гараж. Никольский дом дважды горел, остались одни бревна от него.
Правда, бывало и наоборот. Помимо Заячьего Ремиза еще есть Александрия. Это рай земной – мосты, ручьи, деревья. А потом все покрылось зарослями. И вдруг начинается реставрация самой западной части Александрии. Я прихожу и узнаю детство! Восстановили мое детство, потому что именно так я это видел.
Ведь никто не заботился об этих парках, деревья гибли, образовывались дупла. А мои соотечественники очень любят культуру, и идя по аллее, любили нарвать сухой травы, засунуть в дупло и поджечь. И дерево падает. Ну, так интересно! Это три поколения атеистов, людей, которым никто не объяснял, что человек должен помогать природе, должен подчеркивать ее красоту, это его задача в мире, а не поджигать деревья. Таким образом, я прожил жизнь в музее, который уничтожался на моих глазах. И если Туволков – главный гидравлик, то Эрлер – главный садовник петербургских парков. Чего они там только ни напридумывали! Красота несказанная! А я думал, что так и положено.
Современные психологи говорят, что у ребенка, который ходит в школу в центре города, другая психология, чем у ребенка из Веселого поселка. Это правда. А что действует – не знаю. Я же не могу сказать, что я любуюсь архитектурой Петербурга. Да нет, тем более – в третьем классе. А действует бессознательно. Вот на меня это действовало все бессознательно, поэтому я с детства любил стихи про природу.
Это – самые ранние учителя.
А потом начинается геофизический факультет Арктического училища. Я, между прочим, живя в бесконечной бедности, работал и учился во дворцах. Например, геофизический факультет – это нынешний Константиновский дворец. Только не тот дворец, который сейчас, там евроремонт провели, а еще когда были остатки этого бело-голубого зала. Мне приятель предложил пойти посмотреть, что там. Когда я посмотрел на Константиновский дворец, прошелся по парку, я сказал, что я здесь буду учиться, мне нравится дворец.
Иван Толстой: А он тогда уже был этим училищем?
Борис Аверин: Первоначально в этом дворце беспризорных распределяли, и один из них вспоминает, как они из рогатки стреляли хрустальные подвески: бабахнешь, а она рассыпается. Красота! Воспоминания опубликованы. А когда я был, это уже были аудитории, а рядом были корпуса, спальни. И я там учился с большим успехом, потому что в детские годы я обладал очень хорошей памятью. Я читал книжку на лекциях и одновременно запоминал, что говорит учитель. А в группе меня не любили. Не то чтобы не любили, не было оснований, но я всегда был чужой в группе, потому что вольно или невольно я усваивал язык отца, а это совсем другой язык, чем язык советского молодого человека. Вот такой пример. Я шел по Литейному, портфелем задел человека и говорю: "Простите великодушно!" Отец никогда не говорил "извините", это дурной тон. Я верю, что вы человек великодушный, я вам причинил беспокойство, поэтому я говорю – "простите великодушно". А "извините" в Одессе гопники говорят. Он никогда не говорил "зарплата". Нет такого слова. Жалованье. Я не на работу собираюсь, я иду "на службу". На службе жалованье получают. И из-за этой неправильной речи меня недолюбливали.
Иван Толстой: А что, плюнул в спину вам прохожий?
Борис Аверин: Он меня как-то сложно обругал – нечего выкабениваться. Со мной не выпивали, не приглашали никуда.
Иван Толстой: А девушки?
Борис Аверин: А девушек у меня не было. А, нет! Мне в школе нравилась одна девушка, она на меня тоже посматривала, а потом она мне книгу подарила Антонины Коптяевой. Я прочел пять страниц и девушку разлюбил. Она не виновата в том, что есть писательница Антонина Коптяева. Я даже в энциклопедию залез – много написала, вообще популярная была писательница. А потом я уехал на зимовку и все связи прервались. А в училище у меня было два очень важных в моей биографии учителя. Один – учитель военной синоптики по фамилии Хрипливый. Чтобы сделать прогноз, надо посмотреть на синоптическую карту. Там, где такой изгиб есть, образуется циклон, он делится на холодный и теплый сектор, и мы предсказываем погоду. У нас есть шесть или семь предсказаний возникновения циклона. Но очень часто циклон предсказывается, но не возникает. Все наши представления о законах природы бесконечно приблизительны. Точного знания нет. У Набокова есть стихи под названием "Электричество", где он говорит, что электричество – это прекрасно: настольная лампа, трамвай, радио:
(…)
И вот – как прежде, неземная,
не наша, пролетаешь ты,
прорывы синие являя
непостижимой наготы.
И снова мир, как много сотен
глухих веков тому назад,
и неустойчив, и неплотен,
и Божьим пламенем объят.
Это что значит? Воспоминания Афанасьева прочите. Это представление о мире как о живом, о мире, который наполнен Богом и Божьим светом озарен. Вот эта молния – не наша, не земная, чужая. Это из космоса. Русские космисты вам известны. Благодаря геофизике мне стало понятно, что земля не могла возникнуть в ситуации, когда минус 273, абсолютный минимум, и давление атмосферы ноль. Космос пустой, там холод или жесткое корпускулярное излучение, где не выдерживает ничего живое. А как же возникла Земля? А вот Богородица стоит, а у нее в одеяльцах младенчик. Эта Земля окутывается атмосферой, а затем озонным слоем, который не пропускает жесткое излучение солнца, она вся в пеленочках. И как они возникли? А черт-те знает как. Никто никогда не скажет, как возникла наша Земля. Синоптика чрезвычайно была для меня важна для понимания относительности наших знаний.
Иван Толстой: А вы с тех пор, посмотрев на небо, можете предсказать погоду?
Борис Аверин: Могу. Я предсказываю все время. У меня сын, когда ему было восемь лет, верил, что я не только могу предсказать погоду, я могу ее заказать. Когда я кого-то приглашал в гости, мне говорили, что погода плохая, а я говорил, что "я устрою", он верил, что я могу. Сын лезет в интернет, берет зонтик: "Мне сказали, что дождь будет". – "Не будет. Видишь барометр? Выросло на восемь миллибаров. Если и будет дождь, то через сутки". Он берет зонтик. Идеальная погода. Не может быть, если давление растет, ясное небо. А прогноз в интернете так и шлепают. Мой брат лучше поступает: он берет четыре прогноза, выбирает самый лучший.
Иван Толстой: Почему? Если Борис Валентинович Аверин может такими несложными инструментами?
Борис Аверин: У них, по-моему, нет барометра. Они не сморят. Еще у меня была учительница Вера Иосифовна Волкович, аэрологию преподавала. Я был по профессии аэролог, это распределение метеоэлементов, то есть давление, температура, влажность, скорость и направление ветра по высоте от нуля до тридцати километров. И вот когда я приехал на зимовку в конце октября, приходит телеграмма из Москвы, из министерства обороны, но не приказная, а они просят, чтобы сведения, которые мы поставляем о распределении метеоэлементов по высоте, были приблизительно точными. Просит! Дело в том, что у нас не было даже батареек карманных плоских, мы заливали каким-то раствором баллончики, потому что радиозонд должен вращаться с помощью электричества, а электричество мы сами изготовляли. То есть это была такая чудовищная техническая отсталость! А локатор, на котором мы работали, сделан был в конце 1920-х годов, это примитив – мы штурвалом вращали антенну и наводили на этот радиозонд. Радиозонд у нас обычно достигал высоты семи-десяти километров, а они просят до тридцати. Они знают, что мы клеим липу. Один зонд пролетел высоко, а мы потом экстраполируем.
Дело было очень серьезное, готовился самый мощный в истории мира взрыв водородной бомбы. А вот вы теперь спрашиваете меня, где выпадут радиоактивные осадки? Оказывается, в атмосфере наверху есть так называемые струйные течения. Это такая труба в атмосфере, в которой скорость ветра значительно больше, чем в окружающей атмосфере, и эти трубы в самых разных направлениях. Оказывается, есть трубы, которые в Гренландию ведут. Мы же взрываем в атмосфере, это чудовищное преступление против цивилизации, специалисты говорят. Я-то всего этого не знаю, это было секретно. Хотя я и был на атомном полигоне на Новой Земле, и у нас ледники лопались, когда взрывали в тысяче километров. Специалисты говорят, что взрывная волна трижды проходила по всему земному шару. Но, как говорили мне, радиоактивные осадки выпали в центре Гренландии, где мы с вами не живем и где они будут лежать лет шестьсот, в отличие от Чернобыля. Правда, те, кто остались, они довольны, у них там быки с двумя головами рождаются.
Иван Толстой: Говорят, Красная книга наполовину там восстановилась.
Борис Аверин: Это было в половине октября, солнце уже не выходило из-за горизонта – это называется гражданские сумерки, оно там два-три градуса под горизонтом, то есть светло, но это сумерки. И нас предупредили, что мы должны лечь ногами к эпицентру, но мы не знаем, где центр и где эпицентр, кругом – Северный полюс. Мы перед этим выскочили и играли в футбол по насту, а потом вдруг из-за горизонта встает какой-то страшный луч солнца, и нам всем становится не по себе. Мы играли в футбол, веселились, а собаки вдруг сбились в кучу и куда-то побежали. Они вернулись только через трое суток. А мы слышим звук лопающихся ледников. Земля Франца Иосифа состоит из большого количества островов – внизу там немножко земли, а так это ледник. Вот эти ледники лопались из-за взрывной волны в тысяче километров от нас. Я вам скажу больше, на Камчатке лежали ногами к эпицентру, а это еще дальше, чем мы. Никто не знал последствий этого чудовищного взрыва, их потом еще несколько было, мы этого просто не знали.
Иван Толстой: Какой год на дворе?
Борис Аверин: 1961-й.
Иван Толстой: И в 1961 году неужели ни один физик вам не скажет, что это за последствия?
Борис Аверин: Физик, может, и скажет, а Политбюро свое мнение имеет.
Иван Толстой: Конечно, надо же показать этим американцам. Тогда-то Хрущев и говорил про кузькину мать.
Борис Аверин: Это к тому, что зимовка, где я был в первый раз, у нас там была огромная библиотека. А я, уже закончив геофизический факультет, поступил на заочное отделение филологического факультета.
Иван Толстой: Вы уже начали "переметаться".
Борис Аверин: Да, и как это объяснить? Потому что с какой стати мне нужна вся эта филология? Потому что я – геофизик, я отделом заведовал в Арктическом научно-исследовательском институте, у меня было много почетных предложений. Я вообще хотел в Антарктиду. Не потому, что мне нужна Антарктида, а потому что кругосветное путешествие, а охота к перемене мест – весьма мучительное свойство, немногих добровольный крест.
А потом меня вызвал директор института, говорит: "Я читаю ваше личное дело. Очень странно. Вы заведуете отделом, что-то пишете, даже написали физико-географическое описание Земли Франца Иосифа, а учитесь на филологическом факультете. Это зачем?" – "Я люблю изучать языки". – "Извините, – он улыбнулся, – но вы учитесь на русском отделении".
На зимовке у нас была библиотека – пять тысяч томов из библиотеки баронессы Икскуль. Второе издание "Путешествия из Петербурга в Москву". Это фантастика! И нет бы мне увести все это, хоть бы экземплярчиков пятьдесят! Честность нехорошая была. Они погибли все – пошел летом сильный дождь, крыша протекла, залило библиотеку, а потом – мороз и тут же все разорвалось, все эти книги выбросили. Я только взял одну поганую книжку "Мастерство Гоголя" Храпченко. Ее никто не читал, а мне надо было что-то сдавать. Хотя говорят, что там писали аспиранты и некоторые места очень хорошие, но я не дочитал до таких мест. И вот на зимовке я и начал читать русскую литературу. Потому что после школы я русскую литературу не читал.
Расшифровка интервью для авторской передачи Ивана Толстого на "Радио Свобода" 06 ноября 2018 - часть вторая «Чем закончилась "Анна Каренина"?»
Беседа с профессором Борисом Авериным. Часть вторая
Иван Толстой: В прошлый раз мой собеседник рассказывал о своей жизни до обращения к филологии. Если я не путаю, он как аэролог умеет разгонять тучи и останавливать небесное светило, но русская литература показалась ему интереснее.
Борис Аверин: В школе русскую литературу я не любил. Когда мне объяснили, что "лишний человек" это Евгений Онегин, потому что уже прошло Декабрьское восстание и все умные люди (мы-то с вами знаем, что это было до восстания) были не нужны в этой стране, декабристы уже посажены. Вот эти умные "ненужности" – Печорин, Онегин… Ну, скучно. А у меня еще хорошая память была, поэтому, когда учительница открывает журнал, смотрит на первую строчку, а нам задано читать "Мцыри", я открываю страницу, секунды две читаю, меня называют, и я начинаю цитировать то, что запомнил. Я запоминал, но в целом было неинтересно. А потом учительница вызвала в школу маму и сказала, что единственный человек, о котором она по-настоящему беспокоится, который может не написать сочинение, это ваш сын. Мама и папа никогда не интересовались, как я учусь, у каждого свои заботы, у тебя – учеба, так и учись. А я тоже не понимаю, почему она так. У меня всегда было три-четыре по сочинению. Дело в том, что я в одном из сочинений процитировал Белинского, а Белинского можно было цитировать только те мысли, которые в учебнике, а я Белинского читал. Она боялась, что крамола у меня в сочинении выскочит какая-нибудь. Но написал, получил четверку.
А после зимовки уже начинается университет, и вот здесь я попадаю в совершенно уникальную ситуацию. У нас на кафедре еще те профессора, которые в 30-е годы, – Дмитрий Евгеньевич Максимов, который дружит с Андреем Белым, Мануйлов, который секретарем был у Толстого, который с Вячеславом Ивановым в Баку встречался. Он мне рассказывал, как он идет к Вячеславу Иванову, а тут нищий сидит и милостыню просит. Он думает: давать или не давать? С одной стороны, все жулики, а с другой, как-то не давать милостыню… Звонит, выходит Вячеслав Иванов. "Ну как, следует давать милостыню или нет?" А он еще был хиромант, он предсказывал по линиям. Потом я занимался этой наукой, там есть какой-то смысл. Как и по почерку, по линиям можно определять.
Иван Толстой: Я видел в детстве, как Виктор Андронникович гадает по руке.
Борис Аверин: Я ему говорю: "Погадайте мне". – "Неужели вы хотите знать свое будущее?" – "Не хочу". – "Вот и не надо!" А правда, зачем мне знать свое будущее? Не хочу. Вот такая публика была на кафедре особая. Григорий Абрамович Бялый, друг Гуковского и Бориса Михайловича Эйхенбаума. Рассказывает, что идет с Гуковским и говорит, что ему предлагают место замминистра культуры. А Бялый говорит: "Послушай, ты же выдающийся лектор, прекрасный специалист, что тебе это? Вот твое призвание, вот где ты на месте". Он отвечает: "Не рассуждай о том, чего не понимаешь". Это – любовь к власти. У Бялого этого не было, а у Гуковского, вероятно, было.
За столом сидим, протягивает мне его жена хлеб, а я говорю: "Нет, я пирожок возьму". Он говорит: "Вы невольно повторяете Мариенгофа. Он здесь сидел на вашем месте, и когда я предложил ему хлеб, он говорит, что хлеб он будет есть дома, а тут давайте пирожки". Я застал этот круг людей.
У нас в 415-й школе был учитель рисования, он преподавал еще до революции. Я рисовать не умел, я с ним не общался, но то, что он человек другой формации, видно было сразу. Это какое-то другое воспитание. Очень быстро советская власть перековала народ. Сначала уничтожили религию, потом Надежда Константиновна сказала, что нельзя читать Достоевского, Владимир Ильич подтвердил: буржуазная литература. Джека Лондона они изымали из библиотек. И постепенно, поколение за поколением, культура в этой стране исчезала. Поэтому можно вырубать парки.
Советский народ – это что-то невероятное! Мои профессора хорошо относились к молодежи. Я сейчас даже фамилию не знаю новых преподавателей. А когда я поступал, заведующий кафедрой говорит: "Я хочу взять нового преподавателя, меня немножко пугает, что он партийный". Я говорю: "Не пугайтесь, дело в том, что он работал в газете, его однажды вызвал главный редактор, а он жил в коммунальной комнатушке шесть метров с женой и сыном, и сказали, что они хотят назначить его начальником отдела, а после этого они ему дадут квартиру. Но надо вступить в партию. У них начальников отдела не бывает беспартийных". Это то, что я про отца рассказывал – он вступил и правильно сделал, и никто его не осудит. Что, он будет мучить жену и ребенка в коммунальной квартире? Тем не менее, заведующий кафедрой спрашивает аспиранта, это было нормально. А все эти учителя – Мануйлов, Максимов, Бялый – приглашают в гости, беседуют, им интересно, что думает новое поколение. А что мы думали? Неизвестно. Я пришел, хочу писать диссертацию про "Жизнь Арсеньева" Бунина. Мне говорят: нет, пишите про Короленко, "История моего современника".
Иван Толстой: А что? Хорошая книга.
Борис Аверин: Хорошая книга, но там исследовать нечего.
Иван Толстой: Позитивистская, конечно, да.
Борис Аверин: Не совсем. У него есть глава, которая называется "Потерянный аргумент". Он же был очень религиозный в детстве, а потом он открыл доказательство бытия Божия и забыл. А потом уже, когда он писал статьи, там всегда были слова, что он верующий человек. Но в чем была особенность этой русской интеллигенции? Она была в том, что родители, воспитанные на Чернышевском, Добролюбове, Писареве, я уже не говорю про Зайцева, они же были все атеисты. Поэтому родители их усваивали, что надо переделать социальную основу общества и тогда будет в мире мир. Ни черта не получится.
Вот такой пример. Сидит мальчик за столом, столовая в дворянском доме, крахмальная скатерть, хрусталь, на тарелках всякая еда, сливочное масло, сметана. А за окном бегает без штанов голодный крестьянский ребенок. И вот наш юный толстовец, скажем, ему девять лет, говорит: "Папа, смотри, у нас всего вдоволь, а на улице бегает голодный мальчик. Как это?" На что родители отвечали, это такой ответ распространенный: "Тебе много дано, но с тебя много спросится". Вот этот самый долг перед народом. Хорошо пригласить конкретного мальчика и накормить. Нет, нужно изменить социальные условия, нужно отдать долг народу. Такое своеобразное толстовство, только посильнее, по-настоящему.
Что такое толстовство, я понял еще в школе, а потом я преподавал раз в месяц в городе Нальчике зарубежную литературу. Меня Сокуров пригласил. Я говорю: "Будем изучать зарубежную литературу, будем читать Евангелие от Иоанна". - "Какая же это зарубежная литература?" – "А такая. Что, ты думаешь, это русская литература?" Там есть козий рынок, где бабушки из козьей шерсти делают разную одежду, а мне очень нравились рубашки нательные мягкие, козьи. Я подхожу: "Сколько это стоит?" – "150 рублей". – "Сколько?!" – "150 рублей, ведь это недорого". Боже мой! Я же знаю процесс: надо козу вырастить, накосить травы, ее накормить, потом ее остричь, потом из этой шерсти сделать нитки, а потом из этих ниток сделать рубаху. После этого я иду в кафе в Нальчике, где чашка кофе стоит 150 рублей. Вот бабушка год ткет эту рубашку, а я за десять минут выпиваю. Вот это – толстовцы. Неудобно. Правда, я у бабушки купил три рубашки. А она подумала, что я считаю, что это дорого. А там все цены такие были из козьих вещей.
Так вот, образование мое продолжалось в университете, и это было действительно серьезное.
Иван Толстой: Вы взялись за "Историю моего современника" Короленко?
Борис Аверин: Да. Я два года ничего не делал, читал антисоветскую литературу в огромном количестве. Вашего Ходасевича "Некрополь" до сих пор помню.
Иван Толстой: В каком году вы его прочли?
Борис Аверин: В 1965-м.
Иван Толстой: Ага, хитренький! А я вас в 1980 году, после лекции, в коридоре спросил (о Блоке была лекция). У Ходасевича было, что Блок потом сознавался, что сам не понимает смысла своих стихов. Я вас спросил, вроде никого рядом не было, мы шли с вами вместе по коридору, я вас спросил: а вот Ходасевич как раз говорил, что Блок не понимал своих стихов. И вы изобразили, что не знаете, о чем я говорю. Тертый калач были! Вы, конечно, за провокатора меня приняли.
Борис Аверин: Нет, вы не похожи на провокатора. А у меня с Ходасевичем была история. Я в Москве занимался на социологическом семинаре, а там были два человека, у которых антисоветская литература началась, как у меня, – на полках книги, и там все сплошная антисоветчина. Я у них набирал книги, прочитывал и возвращал. А я не выдержал, еду в поезде сидячем, думаю, достану "Некрополь", книжка историческая. Достал, читаю, вдруг подходит проводник: "О! Это интересно!" Я так напугался! А он, оказывается, любит историческую литературу. Я просто побледнел, он говорит: "Знаете, я люблю историческую литературу, а тут у вас название это явно историческое". Он понимает, что некрополь – это много богов в одном здании, но то, что это антисоветчина… А какая там антисоветчина? Это же воспоминания.
Иван Толстой: Вообще хороший был дом, где вы это взяли, потому что "Некрополь", оригинальное то издание, безумно редкое было, туда бомба попала, в брюссельский склад.
Борис Аверин: Это был очень важный человек в Москве. Их было двое. Одна из них из одного города в кавказской республике, папа у нее был крупный партийный деятель, Эмма Чамокова. Она на уроках литературы преподавала "Архипелаг ГУЛАГ" Солженицына. Самый главный у него рассказ, когда его из поезда вынимают, допрашивают, а он ничего не знает, потому что он в лагере сидит и сейчас возвращается. И она преподавала. На нее донос написали. Всегда найдется человек, которому хочется восстановить справедливость.
Иван Толстой: Мир не без добрых людей.
Борис Аверин: Папенька, конечно, ее отстоял, но сказал, что она должна поехать в Москву, потому что здесь ей делать нечего после такого. Она поехала в Москву, стала работать в библиотеке, и там у нее образовался этот круг людей с такой литературой. Еще вторая дама была невероятно образованная, я у нее много чему научился. Социологии, в частности, потому что они не какую-то марксистскую социологию учили, это же для детей дошкольного возраста, он учили нормальную, хорошую социологию, западную, но не Маркса.
Иван Толстой: Как звали даму?
Борис Аверин: Никольская. Она очень много мне дала, очень много помогала, книжки давала, мы по социологии с ней много беседовали. Надо было как-то поменять мышление, это сложно было. Вот сейчас хорошо, потому что мы понимаем, что человек не просто социальное существо, как ваш любимый Маркс говорил, мы живем в обществе и не можем от него не зависеть. Можем не зависеть запросто, но общество не определяет нас, определяют гораздо более сложные процессы. Я там очень долго учился социологии. Это была Москва, а я в аспирантуре учился. Я езжу в Москву, занимаюсь социологией и знакомлюсь со всякими людьми.
Сижу я как-то в кафе "Прага", там можно было вполне за полтора рубля пообедать, вдруг ко мне подсаживается сильно пьяный человек и говорит: "Слушай, закажи мне стакан вина". Пожалуйста! Заказываю стакан вина, он выпивает, тут же трезвеет, у него проясняются глаза, он говорит: "Смотрю я на тебя и полагаю, что ты гуманитарий, ибо только гуманитарий мог так оскудеть телом". Москвичи, они же с юмором. Москва сильно воспитывала, я очень любил Москву, а сейчас не люблю, сейчас эти небоскребы… Больница Склифосовского, а над ней нависает двадцатиэтажный дом, и нет больницы. А Тверской бульвар! Боже мой, какая безвкусица, какие надписи, какой шрифт! У нас нет такого, кстати, у нас Невский более или менее благообразен.
Иван Толстой: Ну, как сказать. Мой сын много лет не был в России, прилетели в Пулково, на метро доехали до Невского проспекта, выходим, а он говорит: "Что это за Соединенные Штаты? Ты посмотри напротив – каждая надпись на английском языке!".
Борис Аверин: Я бы ответил ему: голубчик мой, вспомни 18–19-й век – все надписи по-французски. Большинство надписей на Невском проспекте. Но сейчас, действительно, перебор с английским языком.
Иван Толстой: А я иду по солнечной стороне Невского проспекта, на все смотрю как приезжий провинциал, и на двери одного из кафе крупно, торжественно, с понтами написано – "Meat balls". И в скобках мелко, скромно так – "фрикадельки".
Борис Аверин: У нас была рядом с Балтийским вокзалом замечательная пельменная, теперь ресторан вот этих гамбургеров. Какой-то кошмар. Так было хорошо: перед электричкой зайдешь, закажешь себе пельменей, стакан вина, сидишь и ждешь электричку. А теперь там эти огромные батоны, внутри которых напихана всякая гадость.
Иван Толстой: А кто был руководителем вашей аспирантуры?
Борис Аверин: Когда я начинал дипломную работу, у меня была Людмила Владимировна Крутикова, жена Федора Абрамова. Через Людмилу Владимировну Крутикову я и познакомился с Федором Александровичем, который меня в какой-то момент поразил. Он был человек с юмором, а у Людмилы Владимировны никакого юмора не было, он не может с ней пошутить. И я помню, что грубовато он так говорил: "Люська, у нас что, марксизм наступил? Где ужин?" У него было ругательство "марксизм", потому что он – крестьянин, а Маркс нам говорит, что вся сила в пролетариате, в фабричном рабочем, который работает на станке, выкручивает гайки на этом станке, а потом кушает водку. Или крестьянин, который хранит язык, фольклор, возделывает землю. Вот суть земли – крестьянин. А какой там пролетариат! Вот поэтому и ругательство было у него – "марксизм". Он сохранил язык архангельского мужика.
Потом, когда я дважды ездил в экспедицию по речке Пинеге, очень интересно было. Я беседовал с каким-то работником, говорю: "Вот какой у вас на Пинеге вырос писатель – Федор Александрович Абрамов". Он: "Да, хороший писатель, да не все правильно "понимат". Он чувствовал, что там какой-то есть подтекст.
У него предки из духовенства. Но он очень много просвещал. А потом у меня стал Григорий Абрамович Бялый.
Иван Толстой: А вы подтверждаете, есть такие воспоминания о Бялом, когда говорят, что Бялый был гениальным лектором?
Борис Аверин: Бесспорно!
Иван Толстой: А в чем гениальность была?
Борис Аверин: Он выходил на кафедру, клал текст и начиналось медленное чтение. Слово за слово, и – вдруг – вы начинали чувствовать текст. У него были и общие теории, но это медленное чтение производило неизгладимое впечатление. Текст открывался, что называется, герменевтика, потому что есть знание и есть понимание. Я знаю основную идею "Войны и мира", но она никому не нужна, а вот прийти к пониманию… И герменевтика только через медленное чтение, через соотнесение различных кусков текста. И вот это сейчас, по-моему, самое сильное направление. А Бялый читал так, что в актовом зале висели на люстрах. И я посещал один из спецкурсов, а на следующий год собирался идти на Проппа, но не пошел, а пошел на Бялого. И это была глубокая ошибка, потому что через год Пропп умер и я так никогда и не слушал его лекции. А это зря, таких людей надо слушать.
Иван Толстой: Проппа при этом никто не хвалит как лектора, все знают его классические книжки, а как о лекторе о нем никто не говорит.
Борис Аверин: Примерно то же, что и Ямпольский. Потому что когда Ямпольскому было уже 90 лет, я принес ему комментарий. Я написал комментарий к "Истории моего современника", шесть печатных листов. Он берет комментарий, листает. Он мне отметил двадцать восемь ошибок без любого справочника, все наизусть!
Это судьба Максимова. На Дмитрия Евгеньевича Максимова поступил донос, что он на лекциях произносит слово "эсхатология". Что такое "эсхатология", никто не знает, но это явно церковное. Нельзя. Его вызвали и предложили ему уйти на пенсию. Так же выгнали на пенсию Ямпольского. Представляете, когда человек читает комментарий: "М.Н.? Да не М.Н., а Н.М.". В мелочах. "Вот вы пишете о романе Клюшникова "Марево". У вас написано 1863 год, а это – 1862-й". И так по всему тексту. Вот такая у нас была команда.
Иван Толстой: Познакомлю наших слушателей с небольшим фрагментом из одной работы Бориса Валентиновича, с его легким стилем и ясной мыслью. Статья называется "Гений тотального воспоминания".
"Набоков действительно обладал "всеобъемлющей памятью", прежде всего – на бесчисленное количество текстов, от "Илиады" до сочинений третьестепенных современных ему писателей. Его тексты, перенасыщенные реминисценциями, позволяют филологам, их изучающим, проявить весь блеск собственной эрудиции. Но, сколь бы проницательны ни были посвященные этому аспекту его творчества исследования (…), у Набокова она производит впечатление принципиальной неисчерпаемости.
Столь же феноменальна была его "память чувств", прежде всего – зрительная, связанная со множеством оптических эффектов. Набоков не случайно любил употреблять слово "паноптикум" как в его исконном значении (от "пан" – охватывающий все, в целом, и "оптикос" – зрительный), так и в значении словарном: паноптикум – собрание уникальных предметов искусства или искусственных подражаний (например, восковых фигур).
"Гениальность" набоковской памяти проявлялась и еще в одном отношении. Он очень хорошо помнил свою жизнь: младенчество, детство, отрочество, великое множество мелочей, связанных с разными возрастными этапами, – мелочей, которые большинство людей обычно забывают безвозвратно.
Гений памяти действительно покровительствовал Набокову – неудивительно, что сюжет "тотального воспоминания" неоднократно разворачивается в его произведениях. Со слова "воспоминание" начинается первый романный текст Набокова. "Машеньке" предпослан эпиграф из первой главы "Евгения Онегина":
Воспомня прежних лет романы,
Воспомня прежнюю любовь...
"Романы" здесь имеют двойной смысл: это любовные истории, но это и книги о любовных историях. Эпиграф приглашает читателя разделить воспоминание одновременно литературное и экзистенциальное. Первое и второе сцеплены неразъемлемо и заполняют собой все пространство текста. Сюжет воспоминания оттесняет постоянно ожидаемое возобновление любовного сюжета – пока не вытесняет его за пределы книги и жизни. Это обманутое читательское ожидание необходимо Набокову как способ резко провести черту между собственной поэтикой и традиционным рассказом о некогда пережитом прошлом, в котором воспоминание играет служебную, а не царственно-центpальную роль".
И финал этой статьи:
"Мы лишь наметили тему, которая существенно смещает представление о "ностальгическом комплексе" как ведущем мотиве набоковского творчества. Не тоска по утраченному раю детства, а "сладость изгнания", "блаженство духовного одиночества", дар Мнемозины, обретаемый по изгнании, – таковы коррективы, вносимые темой "тотального воспоминания" в восприятие многих набоковских сюжетов. Другой аспект его творчества, на который затронутая здесь тема заставляет взглянуть несколько иначе, чем принято, – литературная игра. Она часто кажется самоцелью, на деле же она служит иным, высшим, целям, и, быть может, главнейшей, является обращенное Набоковым к его читателю приглашение к "тотальному воспоминанию", понимаемому как духовный акт воскрешения личности".
Так пишет Борис Аверин в своей работе "Гений тотального воспоминания". Продолжаем нашу беседу в доме Бориса Валентиновича под Петербургом.
А были ли у вас учителя или люди, которых вы позволяете себе назвать учителями, но которые вовсе не были при этом преподавателями школы, филфака или чего-то? Были у вас такие отчимы-учителя, на стороне, ходом коня кто-то учил вас в жизни чему-то?
Борис Аверин: Я помню несколько ярких высказываний людей, которые запомнил на всю жизнь. Самое начало первой перестройки, 1957 год. Тогда же главная идея была у Хрущева, что был великий Ленин, а Сталин – это культ личности. Я что-то подобное сказал одному замечательному человеку, и вдруг он произносит такой дикий текст: "Бросьте вы! Ленин - это политическая проститутка!" Я ошалел. Потом-то я понял, что у Ленина и Сталина разница небольшая, просто Ленин не успел развернуться. Хотя развернулся. То, что Бунин ваш злобный пишет в "Окаянных днях", как человек работал в учреждении, учреждение закрылось, он приходит к большевикам и говорит, что у него семья, дети, ему негде работать, у него нет зарплаты, а ему отвечают: вот вам два ордера на обыск, получайте, заходите, берите. Это – ЧК при возникновении. А потом уже были удостоверения, потом уже был пистолет, право расстреливать классово чуждых людей. Ведь что пишет (не к ночи будет помянут, не хочется фамилию произносить) в первом номере "Современных записок"? Не важно, как человек относился к советской власти, нам важно его социальное происхождение. Если социальное происхождение чуждое нам, он может быть расстрелян без суда и следствия. Так впрямую это не говорилось, потому что потом отменили смертную казнь. Большевики отменили, чекисты. Но там была такая поправочка – "но не в районе боевых действий". Оказалось, что вся Россия – это район боевых действий, поэтому можно было спокойно расстреливать без суда и следствия. Вы даже плохо себе представляете, насколько все были напуганы. Когда в газетах "Правда" и "Известия" регулярно пишутся списки расстрелянных. И в чем они виноваты? А если возьмете знаменитые тома "Мартиролога", это уже 1937 год, кто был на первом месте, кого чаще всего арестовывали и расстреливали в 1937 году? Крестьяне. Потому что еще оставались те крестьяне, которые умели и любили работать. И их быстренько скручивали. На втором месте – рабочие, которые умели работать, которые хорошо получали. У них семья – жена и пятеро детей. Такой был знаменитый член Верховного совета, он единственный умел тачать эти огромные валы для пароходов, он был богат. Вот их сажали. Потом шли священники – один миллион священнослужителей был, а к 1937 году осталось несколько тысяч. Остальные были за ненадобностью убраны. И потом жалкий процент интеллигенции. А мы все: ой, Бабеля арестовали! А интеллигенция довольно быстро смирилась.
Иван Толстой: И все-таки вернемся к ходу коня. Кто еще ваш учитель, если не напрямую, не преподаватель, а учитель жизни, учитель стойкости, учитель иронии, чувства юмора?
Борис Аверин: Моя соседка. Она свято верила в постановления партии и правительства. У нее глаза горели. Она приходит: "Ты считал Постановление 22-го съезда? Не читал? Ты представляешь, как мы будем жить через четыре года? Все вырастет!" У нее глаза сияли. Я смотрел: боже, неужели такое может быть?! Ты посмотри, в магазине ничего нет. Гнилая картошка, за мясом надо стоять два часа. Какое процветание? Это отрицательный пример, но он почему-то запомнился. Я понимал, что так не надо. Такая святая вера – она плохая, что-то здесь не так.
А рядом жила другая бабушка, которая тоже много повлияла. Она работала в колхозе, потом ей удалось бежать из колхоза, она приехала в Ленинград и устроилась на "Скороход", она огромным шестом резину размешивала. Представьте себе огромный резервуар, где кипит резина, а вы размешиваете. Не дамское это дело и невероятно вредное. Она мне говорит: "Какое счастье было! Мне дали комнату в общежитии на пять человек, каждые две недели зарплата, в магазинах есть все" (это для нее "все", потому что в деревне ничего не было). Голубушка, до чего надо довести человека, чтобы он работал на фабрике "Скороход", жил в общежитии на пять человек в комнате и радовался, что ему каждые две недели дают зарплату. А она восхищалась: как хорошо вы живете! И, конечно, очень сильное влияние села, крестьян. Был у меня такой учитель в деревне Филисово на Волге, Федор Федорович. Ко мне приходит сосед по дому и предлагает большой таз крыжовника за пятьдесят копеек. А через три дня он мне приносит большой тазик малины. Сколько? Это подарок. Федор Федорович, который был нравственным лидером в этой деревне, когда узнал, что этому дураку из Ленинграда тот всучил за пятьдесят копеек крыжовник, сказал: "Набери нормальных ягод и подари. Чтобы этого больше никогда не было, чтобы ты не надувал этих дурных горожан". И он был нравственный центр. Я с ним часто беседовал, он был человек с хорошим русским языком, очень просвещенный. В экспедициях я встречался с подобными людьми. Ему поставили диагноз рак, так он десять лет жил после этого. Все умирали через полгода. А это потому, что нравственность его спасала. И все понимали, что Федора Федоровича надо слушаться, потому что не обманет. Это одна из многих встреч, которые сильно повлияли.
А до Федора Федоровича, когда я был в экспедиции, у меня было несколько бабушек. Вот это – наука. Бабушка была Любава, я у нее жил в деревне, собирал фольклор. У нее было шесть или семь дочерей, зятья приезжали на воскресенье и выпивали очень хорошо. А мне же интересно побеседовать. Но не тут-то было. Они разливают стакан водки, потом второй. И меня уже нет, я уже сплю. А они такие добродушные. Я говорю: "А у нас – иначе. У нас, где я живу, там разливает-то гость, а не хозяин. Я должен разливать, а не вы". Поэтому я им – по стакану, а себе шестьдесят грамм. Так вот эта Любава будит меня как-то и говорит: "Я в магазине-то купила… Яйца называются…. Варю, варю и никакого навара!" В первый раз на село привезли яйца. Там нет куриц.
И вот я уезжаю, мне надо ей что-то подарить, а в магазине нет ничего. Там была хорошая тресковая печень в банках, но они ее не ели. Но тут она ко мне обращается с просьбой. Поедешь в Архангельское (она деревню знает Архангельское, а не город), так вот на Соловках поставь свечечку от меня. Я понимаю, что бабушке Любаве – что Архангельское, что Соловки, в общем, это где-то вместе. А Соловки это очень далеко, это надо целую ночь на пароходе плыть, поэтому я решаю, что я поставлю в Архангельске свечечку. Но что-то меня смущает, и тем не менее, сажусь на пароход, еду на Соловки и в этом соборе (его уже очистили от этого всего) ставлю свечечку. И вот что интересно. Когда я поставил свечку, то я почувствовал, что это правильно, но смысла-то никакого нет. Добро должно быть абсолютно бескорыстным.
Иван Толстой: Как таз с малиной.
Борис Аверин: Да, совершенно не должен вмешиваться разум. Сказала бабушка, вот и давай. И я почувствовал облегчение, что я поступил правильно. Вот бабушка меня таким образом воспитала.
Иван Толстой: Борис Валентинович, давайте теперь перевернем мой вопрос. Вот теперь учитель – вы, и к вам приходит юное создание прелестное и говорит: Борис Валентинович, научи как быть, кем быть, что делать?
Борис Аверин: Вы исключительно молодой и наивный человек. Не задают этот вопрос современные студенты.
Иван Толстой: А мы представим себе.
Борис Аверин: Я сейчас читаю для второго и четвертого курса. Второй курс – это очень маленькие дети. Я спрашиваю: "Кто из вас читал Евангелие?". Никто. И когда я начинаю рассказывать, что "Война и мир", как и вся русская литература, построена на религиозной тематике, а "Война и мир" это путь к Богу Пьера, Андрея, Натальи, Марьи и так далее, и у каждого свой, – неинтересно. И вообще литература неинтересна. Я пытаюсь понять, в чем дело. Это – современность. Современность заключается в том, что всякая наука должна иметь применение. Какое применение может иметь литература? Никакого.
Иван Толстой: Ну, что понимать под словом "применение".
Борис Аверин: Вот я окончил, и что я буду делать с "Войной и миром"? Раньше было много музеев, Институт русской литературы, издательства, радио, телевидение, и устраивать детей филологов было нетрудно. Я практически всех устраивал на какую-то работу. А сейчас я никого не могу устроить. Два года назад в Петербурге была такая хорошая радиостанция, где я регулярно делал передачи про современную литературу, потому что я читаю всю современную литературу. Теперь нет такого, теперь, чтобы рецензию опубликовать, я отнесу ее в "Звезду", через полгода опубликуют. Так вот, чтобы кто-нибудь задал вопрос, как надо жить и что нужно делать, – нет таких вопросов.
На западном отделении у меня был такой курс, они постоянно задавали мне вопросы про произведения. Я лекцию практически не читал, все время отвечал на вопросы. Сейчас я говорю: "Вопросы есть?" – "Вопросов нет". Никто из студентов никаких вопросов не задаёт.
Иван Толстой: Тем не менее, вы были бы не вы, если бы вы не вкладывали далекоидущие, долгозреющие идеи, если бы вы зерно не заранивали в землю в своих лекциях. Чему вы учите на самом деле? Вроде бы литературе, а на самом деле…
Борис Аверин: На самом деле, если брать терминологию, то это элементарное толстовство, без крайности. Я не пойду с нищими в ночлежку, но тем не менее, делать карьеру, зарабатывать много денег, завидовать ближнему, осуждать ближнего – ни в коем случае. Не суди. Подставь другую щеку.
Когда я начал осваивать толстовство, я помню яркий эпизод. Шел дождик, я подхожу к магазину, мне нужно купить пачку "Родопи". Магазин пустой, беседует кассирша с продавщицей. Я говорю: "Будьте добры пачку "Родопи". А они беседуют про мальчиков. Я послушал, а потом говорю: "Простите великодушно, можно мне пачку "Родопи"?". Ответ – молчание. Я снова повторяю. А мне говорят: "Вот ты шары-то налил, а теперь требуешь чего-то". Тут бы мне надо ответить, что, мол, повежливее нельзя? Я говорю: "Девушка, вы меня обижаете". Это шел дождь, и у меня такая была прическа на лоб. Вы знаете, она покраснела. Если бы я ответил ей как надо – мать-перемать. Нет, не обижайся, прости. Но у нее действительно интересный разговор.
И вот это и есть толстовство. Встань на точку зрения другого человека, не осуждай, даже если он явно не прав, потому что мы все неправы друг перед другом. И не осуди.
Перепеку я недавно всю наизусть выучил Толстого с императорами. Александру III он говорит: понимаете, их надо простить. У вас есть два способа – или жестокость, или какие-то либеральные последствия. Ни то, ни другое не работает. Вот они убили, а вы скажите: вы виновны, вы страшно виновны, но мы вас прощаем и не казним. Казнили. Вот если бы послушались Толстого и Владимира Соловьева и сказали: вы страшно виноваты, но убивать людей нельзя. Тем более что вы начитались Гаршина, но Гаршин что говорит? Он вырвал цветок красный и прижал к груди. "Если ты поднимаешь знамя красное, то это знамя должно быть смочено твоей собственной кровью, но не чужой". Это я процитировал своего учителя, статья о Гаршине. Я процитировал, а редактор тома говорит, что это банальность, это вычеркните. И ссылку убрали. Я говорю: "Абрам Константинович, извините, вычеркнули ссылку". – "Да ну, ерунда, никто не заметит". Потому что убить Государя императора? Ну и что? Почитайте Горького, он пишет в "Городке Окурове", что пришло сведение, что убит Александр II, понять этого никак невозможно, а дальше – опять городские новости. Никакого впечатления на российскую действительность это действие не произвело. А если бы вы простили? Я думаю, так бы активно не стало развиваться. Надо было прервать эту жестокую последовательность, когда вместо того, что возлюбить ближнего, мы хотим менять социальный строй. Да, давайте, меняйте, только вы не хлебом единым, не получится у вас, равенства бытового не будет никогда.
Вот у вас ни одного седого волоса нет, а я – седой как лунь. Ну, неравенство. И во всем неравенство. А вы хотите мне бытовое равенство? Получится жуткая борьба и зависть, если мы будем добиваться бытового равенства. И чему Толстой учит? Говорят, что я отказываюсь от Бога, от Христа. Да наоборот. Когда я читал критику догматического богословия, я первые пять страниц читал с ужасом. Это страшное обвинение церкви в том, что они затемняют учение Христа. А потом я прочел воспоминания дочери. Он дает переписывать жене, жена переписала четыре страницы, потом в жутком возмущении врывается в кабинет и говорит: "Я этого переписывать не буду!" Страшно, правда, потому что он очень сильно ополчился на церковь. Я подхожу к священнику и говорю, что я вашу всю службу прослушал, я старославянский учил, но я половины не понял, о чем вы тут говорите, а ваши прихожане, которые не знают, они же вообще ничего не понимают, почему бы не перейти на русский? А он мне говорит: "Можно, но будет некрасиво". На старославянском красиво звучит. Конечно, гимназисты изучали старославянский, а сейчас его никто не знает. Ну, служба – красиво, хор, но в целом содержание не доходит никак. И это немножко обидно. Мне рассказывали, что в Москве в одной церкви ввели службу на русском языке. Очереди стояли километровые. Потом закрыли. Нельзя. Надо чтить язык и веру предков.
Иван Толстой: Красота и есть воздержание.
Борис Аверин: Вы-то понимаете. А вы учились на русском отделении?
Иван Толстой: На русском. И по старославянскому была твердая двойка.
Борис Аверин: А у кого диплом писали?
Иван Толстой: По старославянскому у меня была Татьяна Всеволодовна Рождественская.
Борис Аверин: Ну, она тогда маленькая была.
Иван Толстой: Но я таким старым уже учился, у меня вся жизнь прошла, я до этого в медицинском институте учился. Потом работал экскурсоводом в Пушкинских горах. А когда поступил на первый курс, преподавателем у меня была только что окончившая филфак моя одноклассница, и она все время была пунцовая, ей было так неудобно – сидел на первой парте большой, толстый я, а она мне преподавала. А я ее Люська и на "ты", и за косы дергал в школе.
Борис Аверин: У меня похожий был эпизод. Я, когда окончил, я сразу же после окончания начал преподавать. Ко мне приходит однокурсница, с которой я учился и сидел на одной парте. А она отстала, не успевала, ей трудно было учиться. Она говорит: "Поставь мне отметку". – "Конечно!". И пишу ту оценку, которую она заслуживает, – "удовл.". Она так оскорбилась! Больше со мной не разговаривала.
Иван Толстой: Это не по-толстовски!
Борис Аверин: Но я же ее не спрашивал. А вот недавний ответ, чтобы позабавить вас в конце нашей беседы. Девочка отвечает "Войну и мир", я говорю: "Скажите, пожалуйста, а в чем там дело?" – "Понимаете, там описывается война, а вместе с войной описывается и мир". – "Отличный ответ! А с кем была война?" Она говорит: "С турками".
Иван Толстой: А кто победил?
Борис Аверин: А черт его знает! У нас есть кафе, называется "Бородино". Я спросил официанта, что такое Бородино? "Откуда я знаю?" Последняя байка была два года назад на факультете журналистики. "Анну Каренину" отвечает студент. Я говорю: "А чем заканчивается роман?" – "Она бросается под поезд". – "Правильно! А дальше что?" Он задумывается и говорит: "Но не умерла".
Иван Толстой: В прошлый раз мой собеседник рассказывал о своей жизни до обращения к филологии. Если я не путаю, он как аэролог умеет разгонять тучи и останавливать небесное светило, но русская литература показалась ему интереснее.
Борис Аверин: В школе русскую литературу я не любил. Когда мне объяснили, что "лишний человек" это Евгений Онегин, потому что уже прошло Декабрьское восстание и все умные люди (мы-то с вами знаем, что это было до восстания) были не нужны в этой стране, декабристы уже посажены. Вот эти умные "ненужности" – Печорин, Онегин… Ну, скучно. А у меня еще хорошая память была, поэтому, когда учительница открывает журнал, смотрит на первую строчку, а нам задано читать "Мцыри", я открываю страницу, секунды две читаю, меня называют, и я начинаю цитировать то, что запомнил. Я запоминал, но в целом было неинтересно. А потом учительница вызвала в школу маму и сказала, что единственный человек, о котором она по-настоящему беспокоится, который может не написать сочинение, это ваш сын. Мама и папа никогда не интересовались, как я учусь, у каждого свои заботы, у тебя – учеба, так и учись. А я тоже не понимаю, почему она так. У меня всегда было три-четыре по сочинению. Дело в том, что я в одном из сочинений процитировал Белинского, а Белинского можно было цитировать только те мысли, которые в учебнике, а я Белинского читал. Она боялась, что крамола у меня в сочинении выскочит какая-нибудь. Но написал, получил четверку.
А после зимовки уже начинается университет, и вот здесь я попадаю в совершенно уникальную ситуацию. У нас на кафедре еще те профессора, которые в 30-е годы, – Дмитрий Евгеньевич Максимов, который дружит с Андреем Белым, Мануйлов, который секретарем был у Толстого, который с Вячеславом Ивановым в Баку встречался. Он мне рассказывал, как он идет к Вячеславу Иванову, а тут нищий сидит и милостыню просит. Он думает: давать или не давать? С одной стороны, все жулики, а с другой, как-то не давать милостыню… Звонит, выходит Вячеслав Иванов. "Ну как, следует давать милостыню или нет?" А он еще был хиромант, он предсказывал по линиям. Потом я занимался этой наукой, там есть какой-то смысл. Как и по почерку, по линиям можно определять.
Иван Толстой: Я видел в детстве, как Виктор Андронникович гадает по руке.
Борис Аверин: Я ему говорю: "Погадайте мне". – "Неужели вы хотите знать свое будущее?" – "Не хочу". – "Вот и не надо!" А правда, зачем мне знать свое будущее? Не хочу. Вот такая публика была на кафедре особая. Григорий Абрамович Бялый, друг Гуковского и Бориса Михайловича Эйхенбаума. Рассказывает, что идет с Гуковским и говорит, что ему предлагают место замминистра культуры. А Бялый говорит: "Послушай, ты же выдающийся лектор, прекрасный специалист, что тебе это? Вот твое призвание, вот где ты на месте". Он отвечает: "Не рассуждай о том, чего не понимаешь". Это – любовь к власти. У Бялого этого не было, а у Гуковского, вероятно, было.
За столом сидим, протягивает мне его жена хлеб, а я говорю: "Нет, я пирожок возьму". Он говорит: "Вы невольно повторяете Мариенгофа. Он здесь сидел на вашем месте, и когда я предложил ему хлеб, он говорит, что хлеб он будет есть дома, а тут давайте пирожки". Я застал этот круг людей.
У нас в 415-й школе был учитель рисования, он преподавал еще до революции. Я рисовать не умел, я с ним не общался, но то, что он человек другой формации, видно было сразу. Это какое-то другое воспитание. Очень быстро советская власть перековала народ. Сначала уничтожили религию, потом Надежда Константиновна сказала, что нельзя читать Достоевского, Владимир Ильич подтвердил: буржуазная литература. Джека Лондона они изымали из библиотек. И постепенно, поколение за поколением, культура в этой стране исчезала. Поэтому можно вырубать парки.
Советский народ – это что-то невероятное! Мои профессора хорошо относились к молодежи. Я сейчас даже фамилию не знаю новых преподавателей. А когда я поступал, заведующий кафедрой говорит: "Я хочу взять нового преподавателя, меня немножко пугает, что он партийный". Я говорю: "Не пугайтесь, дело в том, что он работал в газете, его однажды вызвал главный редактор, а он жил в коммунальной комнатушке шесть метров с женой и сыном, и сказали, что они хотят назначить его начальником отдела, а после этого они ему дадут квартиру. Но надо вступить в партию. У них начальников отдела не бывает беспартийных". Это то, что я про отца рассказывал – он вступил и правильно сделал, и никто его не осудит. Что, он будет мучить жену и ребенка в коммунальной квартире? Тем не менее, заведующий кафедрой спрашивает аспиранта, это было нормально. А все эти учителя – Мануйлов, Максимов, Бялый – приглашают в гости, беседуют, им интересно, что думает новое поколение. А что мы думали? Неизвестно. Я пришел, хочу писать диссертацию про "Жизнь Арсеньева" Бунина. Мне говорят: нет, пишите про Короленко, "История моего современника".
Иван Толстой: А что? Хорошая книга.
Борис Аверин: Хорошая книга, но там исследовать нечего.
Иван Толстой: Позитивистская, конечно, да.
Борис Аверин: Не совсем. У него есть глава, которая называется "Потерянный аргумент". Он же был очень религиозный в детстве, а потом он открыл доказательство бытия Божия и забыл. А потом уже, когда он писал статьи, там всегда были слова, что он верующий человек. Но в чем была особенность этой русской интеллигенции? Она была в том, что родители, воспитанные на Чернышевском, Добролюбове, Писареве, я уже не говорю про Зайцева, они же были все атеисты. Поэтому родители их усваивали, что надо переделать социальную основу общества и тогда будет в мире мир. Ни черта не получится.
Вот такой пример. Сидит мальчик за столом, столовая в дворянском доме, крахмальная скатерть, хрусталь, на тарелках всякая еда, сливочное масло, сметана. А за окном бегает без штанов голодный крестьянский ребенок. И вот наш юный толстовец, скажем, ему девять лет, говорит: "Папа, смотри, у нас всего вдоволь, а на улице бегает голодный мальчик. Как это?" На что родители отвечали, это такой ответ распространенный: "Тебе много дано, но с тебя много спросится". Вот этот самый долг перед народом. Хорошо пригласить конкретного мальчика и накормить. Нет, нужно изменить социальные условия, нужно отдать долг народу. Такое своеобразное толстовство, только посильнее, по-настоящему.
Что такое толстовство, я понял еще в школе, а потом я преподавал раз в месяц в городе Нальчике зарубежную литературу. Меня Сокуров пригласил. Я говорю: "Будем изучать зарубежную литературу, будем читать Евангелие от Иоанна". - "Какая же это зарубежная литература?" – "А такая. Что, ты думаешь, это русская литература?" Там есть козий рынок, где бабушки из козьей шерсти делают разную одежду, а мне очень нравились рубашки нательные мягкие, козьи. Я подхожу: "Сколько это стоит?" – "150 рублей". – "Сколько?!" – "150 рублей, ведь это недорого". Боже мой! Я же знаю процесс: надо козу вырастить, накосить травы, ее накормить, потом ее остричь, потом из этой шерсти сделать нитки, а потом из этих ниток сделать рубаху. После этого я иду в кафе в Нальчике, где чашка кофе стоит 150 рублей. Вот бабушка год ткет эту рубашку, а я за десять минут выпиваю. Вот это – толстовцы. Неудобно. Правда, я у бабушки купил три рубашки. А она подумала, что я считаю, что это дорого. А там все цены такие были из козьих вещей.
Так вот, образование мое продолжалось в университете, и это было действительно серьезное.
Иван Толстой: Вы взялись за "Историю моего современника" Короленко?
Борис Аверин: Да. Я два года ничего не делал, читал антисоветскую литературу в огромном количестве. Вашего Ходасевича "Некрополь" до сих пор помню.
Иван Толстой: В каком году вы его прочли?
Борис Аверин: В 1965-м.
Иван Толстой: Ага, хитренький! А я вас в 1980 году, после лекции, в коридоре спросил (о Блоке была лекция). У Ходасевича было, что Блок потом сознавался, что сам не понимает смысла своих стихов. Я вас спросил, вроде никого рядом не было, мы шли с вами вместе по коридору, я вас спросил: а вот Ходасевич как раз говорил, что Блок не понимал своих стихов. И вы изобразили, что не знаете, о чем я говорю. Тертый калач были! Вы, конечно, за провокатора меня приняли.
Борис Аверин: Нет, вы не похожи на провокатора. А у меня с Ходасевичем была история. Я в Москве занимался на социологическом семинаре, а там были два человека, у которых антисоветская литература началась, как у меня, – на полках книги, и там все сплошная антисоветчина. Я у них набирал книги, прочитывал и возвращал. А я не выдержал, еду в поезде сидячем, думаю, достану "Некрополь", книжка историческая. Достал, читаю, вдруг подходит проводник: "О! Это интересно!" Я так напугался! А он, оказывается, любит историческую литературу. Я просто побледнел, он говорит: "Знаете, я люблю историческую литературу, а тут у вас название это явно историческое". Он понимает, что некрополь – это много богов в одном здании, но то, что это антисоветчина… А какая там антисоветчина? Это же воспоминания.
Иван Толстой: Вообще хороший был дом, где вы это взяли, потому что "Некрополь", оригинальное то издание, безумно редкое было, туда бомба попала, в брюссельский склад.
Борис Аверин: Это был очень важный человек в Москве. Их было двое. Одна из них из одного города в кавказской республике, папа у нее был крупный партийный деятель, Эмма Чамокова. Она на уроках литературы преподавала "Архипелаг ГУЛАГ" Солженицына. Самый главный у него рассказ, когда его из поезда вынимают, допрашивают, а он ничего не знает, потому что он в лагере сидит и сейчас возвращается. И она преподавала. На нее донос написали. Всегда найдется человек, которому хочется восстановить справедливость.
Иван Толстой: Мир не без добрых людей.
Борис Аверин: Папенька, конечно, ее отстоял, но сказал, что она должна поехать в Москву, потому что здесь ей делать нечего после такого. Она поехала в Москву, стала работать в библиотеке, и там у нее образовался этот круг людей с такой литературой. Еще вторая дама была невероятно образованная, я у нее много чему научился. Социологии, в частности, потому что они не какую-то марксистскую социологию учили, это же для детей дошкольного возраста, он учили нормальную, хорошую социологию, западную, но не Маркса.
Иван Толстой: Как звали даму?
Борис Аверин: Никольская. Она очень много мне дала, очень много помогала, книжки давала, мы по социологии с ней много беседовали. Надо было как-то поменять мышление, это сложно было. Вот сейчас хорошо, потому что мы понимаем, что человек не просто социальное существо, как ваш любимый Маркс говорил, мы живем в обществе и не можем от него не зависеть. Можем не зависеть запросто, но общество не определяет нас, определяют гораздо более сложные процессы. Я там очень долго учился социологии. Это была Москва, а я в аспирантуре учился. Я езжу в Москву, занимаюсь социологией и знакомлюсь со всякими людьми.
Сижу я как-то в кафе "Прага", там можно было вполне за полтора рубля пообедать, вдруг ко мне подсаживается сильно пьяный человек и говорит: "Слушай, закажи мне стакан вина". Пожалуйста! Заказываю стакан вина, он выпивает, тут же трезвеет, у него проясняются глаза, он говорит: "Смотрю я на тебя и полагаю, что ты гуманитарий, ибо только гуманитарий мог так оскудеть телом". Москвичи, они же с юмором. Москва сильно воспитывала, я очень любил Москву, а сейчас не люблю, сейчас эти небоскребы… Больница Склифосовского, а над ней нависает двадцатиэтажный дом, и нет больницы. А Тверской бульвар! Боже мой, какая безвкусица, какие надписи, какой шрифт! У нас нет такого, кстати, у нас Невский более или менее благообразен.
Иван Толстой: Ну, как сказать. Мой сын много лет не был в России, прилетели в Пулково, на метро доехали до Невского проспекта, выходим, а он говорит: "Что это за Соединенные Штаты? Ты посмотри напротив – каждая надпись на английском языке!".
Борис Аверин: Я бы ответил ему: голубчик мой, вспомни 18–19-й век – все надписи по-французски. Большинство надписей на Невском проспекте. Но сейчас, действительно, перебор с английским языком.
Иван Толстой: А я иду по солнечной стороне Невского проспекта, на все смотрю как приезжий провинциал, и на двери одного из кафе крупно, торжественно, с понтами написано – "Meat balls". И в скобках мелко, скромно так – "фрикадельки".
Борис Аверин: У нас была рядом с Балтийским вокзалом замечательная пельменная, теперь ресторан вот этих гамбургеров. Какой-то кошмар. Так было хорошо: перед электричкой зайдешь, закажешь себе пельменей, стакан вина, сидишь и ждешь электричку. А теперь там эти огромные батоны, внутри которых напихана всякая гадость.
Иван Толстой: А кто был руководителем вашей аспирантуры?
Борис Аверин: Когда я начинал дипломную работу, у меня была Людмила Владимировна Крутикова, жена Федора Абрамова. Через Людмилу Владимировну Крутикову я и познакомился с Федором Александровичем, который меня в какой-то момент поразил. Он был человек с юмором, а у Людмилы Владимировны никакого юмора не было, он не может с ней пошутить. И я помню, что грубовато он так говорил: "Люська, у нас что, марксизм наступил? Где ужин?" У него было ругательство "марксизм", потому что он – крестьянин, а Маркс нам говорит, что вся сила в пролетариате, в фабричном рабочем, который работает на станке, выкручивает гайки на этом станке, а потом кушает водку. Или крестьянин, который хранит язык, фольклор, возделывает землю. Вот суть земли – крестьянин. А какой там пролетариат! Вот поэтому и ругательство было у него – "марксизм". Он сохранил язык архангельского мужика.
Потом, когда я дважды ездил в экспедицию по речке Пинеге, очень интересно было. Я беседовал с каким-то работником, говорю: "Вот какой у вас на Пинеге вырос писатель – Федор Александрович Абрамов". Он: "Да, хороший писатель, да не все правильно "понимат". Он чувствовал, что там какой-то есть подтекст.
У него предки из духовенства. Но он очень много просвещал. А потом у меня стал Григорий Абрамович Бялый.
Иван Толстой: А вы подтверждаете, есть такие воспоминания о Бялом, когда говорят, что Бялый был гениальным лектором?
Борис Аверин: Бесспорно!
Иван Толстой: А в чем гениальность была?
Борис Аверин: Он выходил на кафедру, клал текст и начиналось медленное чтение. Слово за слово, и – вдруг – вы начинали чувствовать текст. У него были и общие теории, но это медленное чтение производило неизгладимое впечатление. Текст открывался, что называется, герменевтика, потому что есть знание и есть понимание. Я знаю основную идею "Войны и мира", но она никому не нужна, а вот прийти к пониманию… И герменевтика только через медленное чтение, через соотнесение различных кусков текста. И вот это сейчас, по-моему, самое сильное направление. А Бялый читал так, что в актовом зале висели на люстрах. И я посещал один из спецкурсов, а на следующий год собирался идти на Проппа, но не пошел, а пошел на Бялого. И это была глубокая ошибка, потому что через год Пропп умер и я так никогда и не слушал его лекции. А это зря, таких людей надо слушать.
Иван Толстой: Проппа при этом никто не хвалит как лектора, все знают его классические книжки, а как о лекторе о нем никто не говорит.
Борис Аверин: Примерно то же, что и Ямпольский. Потому что когда Ямпольскому было уже 90 лет, я принес ему комментарий. Я написал комментарий к "Истории моего современника", шесть печатных листов. Он берет комментарий, листает. Он мне отметил двадцать восемь ошибок без любого справочника, все наизусть!
Это судьба Максимова. На Дмитрия Евгеньевича Максимова поступил донос, что он на лекциях произносит слово "эсхатология". Что такое "эсхатология", никто не знает, но это явно церковное. Нельзя. Его вызвали и предложили ему уйти на пенсию. Так же выгнали на пенсию Ямпольского. Представляете, когда человек читает комментарий: "М.Н.? Да не М.Н., а Н.М.". В мелочах. "Вот вы пишете о романе Клюшникова "Марево". У вас написано 1863 год, а это – 1862-й". И так по всему тексту. Вот такая у нас была команда.
Иван Толстой: Познакомлю наших слушателей с небольшим фрагментом из одной работы Бориса Валентиновича, с его легким стилем и ясной мыслью. Статья называется "Гений тотального воспоминания".
"Набоков действительно обладал "всеобъемлющей памятью", прежде всего – на бесчисленное количество текстов, от "Илиады" до сочинений третьестепенных современных ему писателей. Его тексты, перенасыщенные реминисценциями, позволяют филологам, их изучающим, проявить весь блеск собственной эрудиции. Но, сколь бы проницательны ни были посвященные этому аспекту его творчества исследования (…), у Набокова она производит впечатление принципиальной неисчерпаемости.
Столь же феноменальна была его "память чувств", прежде всего – зрительная, связанная со множеством оптических эффектов. Набоков не случайно любил употреблять слово "паноптикум" как в его исконном значении (от "пан" – охватывающий все, в целом, и "оптикос" – зрительный), так и в значении словарном: паноптикум – собрание уникальных предметов искусства или искусственных подражаний (например, восковых фигур).
"Гениальность" набоковской памяти проявлялась и еще в одном отношении. Он очень хорошо помнил свою жизнь: младенчество, детство, отрочество, великое множество мелочей, связанных с разными возрастными этапами, – мелочей, которые большинство людей обычно забывают безвозвратно.
Гений памяти действительно покровительствовал Набокову – неудивительно, что сюжет "тотального воспоминания" неоднократно разворачивается в его произведениях. Со слова "воспоминание" начинается первый романный текст Набокова. "Машеньке" предпослан эпиграф из первой главы "Евгения Онегина":
Воспомня прежних лет романы,
Воспомня прежнюю любовь...
"Романы" здесь имеют двойной смысл: это любовные истории, но это и книги о любовных историях. Эпиграф приглашает читателя разделить воспоминание одновременно литературное и экзистенциальное. Первое и второе сцеплены неразъемлемо и заполняют собой все пространство текста. Сюжет воспоминания оттесняет постоянно ожидаемое возобновление любовного сюжета – пока не вытесняет его за пределы книги и жизни. Это обманутое читательское ожидание необходимо Набокову как способ резко провести черту между собственной поэтикой и традиционным рассказом о некогда пережитом прошлом, в котором воспоминание играет служебную, а не царственно-центpальную роль".
И финал этой статьи:
"Мы лишь наметили тему, которая существенно смещает представление о "ностальгическом комплексе" как ведущем мотиве набоковского творчества. Не тоска по утраченному раю детства, а "сладость изгнания", "блаженство духовного одиночества", дар Мнемозины, обретаемый по изгнании, – таковы коррективы, вносимые темой "тотального воспоминания" в восприятие многих набоковских сюжетов. Другой аспект его творчества, на который затронутая здесь тема заставляет взглянуть несколько иначе, чем принято, – литературная игра. Она часто кажется самоцелью, на деле же она служит иным, высшим, целям, и, быть может, главнейшей, является обращенное Набоковым к его читателю приглашение к "тотальному воспоминанию", понимаемому как духовный акт воскрешения личности".
Так пишет Борис Аверин в своей работе "Гений тотального воспоминания". Продолжаем нашу беседу в доме Бориса Валентиновича под Петербургом.
А были ли у вас учителя или люди, которых вы позволяете себе назвать учителями, но которые вовсе не были при этом преподавателями школы, филфака или чего-то? Были у вас такие отчимы-учителя, на стороне, ходом коня кто-то учил вас в жизни чему-то?
Борис Аверин: Я помню несколько ярких высказываний людей, которые запомнил на всю жизнь. Самое начало первой перестройки, 1957 год. Тогда же главная идея была у Хрущева, что был великий Ленин, а Сталин – это культ личности. Я что-то подобное сказал одному замечательному человеку, и вдруг он произносит такой дикий текст: "Бросьте вы! Ленин - это политическая проститутка!" Я ошалел. Потом-то я понял, что у Ленина и Сталина разница небольшая, просто Ленин не успел развернуться. Хотя развернулся. То, что Бунин ваш злобный пишет в "Окаянных днях", как человек работал в учреждении, учреждение закрылось, он приходит к большевикам и говорит, что у него семья, дети, ему негде работать, у него нет зарплаты, а ему отвечают: вот вам два ордера на обыск, получайте, заходите, берите. Это – ЧК при возникновении. А потом уже были удостоверения, потом уже был пистолет, право расстреливать классово чуждых людей. Ведь что пишет (не к ночи будет помянут, не хочется фамилию произносить) в первом номере "Современных записок"? Не важно, как человек относился к советской власти, нам важно его социальное происхождение. Если социальное происхождение чуждое нам, он может быть расстрелян без суда и следствия. Так впрямую это не говорилось, потому что потом отменили смертную казнь. Большевики отменили, чекисты. Но там была такая поправочка – "но не в районе боевых действий". Оказалось, что вся Россия – это район боевых действий, поэтому можно было спокойно расстреливать без суда и следствия. Вы даже плохо себе представляете, насколько все были напуганы. Когда в газетах "Правда" и "Известия" регулярно пишутся списки расстрелянных. И в чем они виноваты? А если возьмете знаменитые тома "Мартиролога", это уже 1937 год, кто был на первом месте, кого чаще всего арестовывали и расстреливали в 1937 году? Крестьяне. Потому что еще оставались те крестьяне, которые умели и любили работать. И их быстренько скручивали. На втором месте – рабочие, которые умели работать, которые хорошо получали. У них семья – жена и пятеро детей. Такой был знаменитый член Верховного совета, он единственный умел тачать эти огромные валы для пароходов, он был богат. Вот их сажали. Потом шли священники – один миллион священнослужителей был, а к 1937 году осталось несколько тысяч. Остальные были за ненадобностью убраны. И потом жалкий процент интеллигенции. А мы все: ой, Бабеля арестовали! А интеллигенция довольно быстро смирилась.
Иван Толстой: И все-таки вернемся к ходу коня. Кто еще ваш учитель, если не напрямую, не преподаватель, а учитель жизни, учитель стойкости, учитель иронии, чувства юмора?
Борис Аверин: Моя соседка. Она свято верила в постановления партии и правительства. У нее глаза горели. Она приходит: "Ты считал Постановление 22-го съезда? Не читал? Ты представляешь, как мы будем жить через четыре года? Все вырастет!" У нее глаза сияли. Я смотрел: боже, неужели такое может быть?! Ты посмотри, в магазине ничего нет. Гнилая картошка, за мясом надо стоять два часа. Какое процветание? Это отрицательный пример, но он почему-то запомнился. Я понимал, что так не надо. Такая святая вера – она плохая, что-то здесь не так.
А рядом жила другая бабушка, которая тоже много повлияла. Она работала в колхозе, потом ей удалось бежать из колхоза, она приехала в Ленинград и устроилась на "Скороход", она огромным шестом резину размешивала. Представьте себе огромный резервуар, где кипит резина, а вы размешиваете. Не дамское это дело и невероятно вредное. Она мне говорит: "Какое счастье было! Мне дали комнату в общежитии на пять человек, каждые две недели зарплата, в магазинах есть все" (это для нее "все", потому что в деревне ничего не было). Голубушка, до чего надо довести человека, чтобы он работал на фабрике "Скороход", жил в общежитии на пять человек в комнате и радовался, что ему каждые две недели дают зарплату. А она восхищалась: как хорошо вы живете! И, конечно, очень сильное влияние села, крестьян. Был у меня такой учитель в деревне Филисово на Волге, Федор Федорович. Ко мне приходит сосед по дому и предлагает большой таз крыжовника за пятьдесят копеек. А через три дня он мне приносит большой тазик малины. Сколько? Это подарок. Федор Федорович, который был нравственным лидером в этой деревне, когда узнал, что этому дураку из Ленинграда тот всучил за пятьдесят копеек крыжовник, сказал: "Набери нормальных ягод и подари. Чтобы этого больше никогда не было, чтобы ты не надувал этих дурных горожан". И он был нравственный центр. Я с ним часто беседовал, он был человек с хорошим русским языком, очень просвещенный. В экспедициях я встречался с подобными людьми. Ему поставили диагноз рак, так он десять лет жил после этого. Все умирали через полгода. А это потому, что нравственность его спасала. И все понимали, что Федора Федоровича надо слушаться, потому что не обманет. Это одна из многих встреч, которые сильно повлияли.
А до Федора Федоровича, когда я был в экспедиции, у меня было несколько бабушек. Вот это – наука. Бабушка была Любава, я у нее жил в деревне, собирал фольклор. У нее было шесть или семь дочерей, зятья приезжали на воскресенье и выпивали очень хорошо. А мне же интересно побеседовать. Но не тут-то было. Они разливают стакан водки, потом второй. И меня уже нет, я уже сплю. А они такие добродушные. Я говорю: "А у нас – иначе. У нас, где я живу, там разливает-то гость, а не хозяин. Я должен разливать, а не вы". Поэтому я им – по стакану, а себе шестьдесят грамм. Так вот эта Любава будит меня как-то и говорит: "Я в магазине-то купила… Яйца называются…. Варю, варю и никакого навара!" В первый раз на село привезли яйца. Там нет куриц.
И вот я уезжаю, мне надо ей что-то подарить, а в магазине нет ничего. Там была хорошая тресковая печень в банках, но они ее не ели. Но тут она ко мне обращается с просьбой. Поедешь в Архангельское (она деревню знает Архангельское, а не город), так вот на Соловках поставь свечечку от меня. Я понимаю, что бабушке Любаве – что Архангельское, что Соловки, в общем, это где-то вместе. А Соловки это очень далеко, это надо целую ночь на пароходе плыть, поэтому я решаю, что я поставлю в Архангельске свечечку. Но что-то меня смущает, и тем не менее, сажусь на пароход, еду на Соловки и в этом соборе (его уже очистили от этого всего) ставлю свечечку. И вот что интересно. Когда я поставил свечку, то я почувствовал, что это правильно, но смысла-то никакого нет. Добро должно быть абсолютно бескорыстным.
Иван Толстой: Как таз с малиной.
Борис Аверин: Да, совершенно не должен вмешиваться разум. Сказала бабушка, вот и давай. И я почувствовал облегчение, что я поступил правильно. Вот бабушка меня таким образом воспитала.
Иван Толстой: Борис Валентинович, давайте теперь перевернем мой вопрос. Вот теперь учитель – вы, и к вам приходит юное создание прелестное и говорит: Борис Валентинович, научи как быть, кем быть, что делать?
Борис Аверин: Вы исключительно молодой и наивный человек. Не задают этот вопрос современные студенты.
Иван Толстой: А мы представим себе.
Борис Аверин: Я сейчас читаю для второго и четвертого курса. Второй курс – это очень маленькие дети. Я спрашиваю: "Кто из вас читал Евангелие?". Никто. И когда я начинаю рассказывать, что "Война и мир", как и вся русская литература, построена на религиозной тематике, а "Война и мир" это путь к Богу Пьера, Андрея, Натальи, Марьи и так далее, и у каждого свой, – неинтересно. И вообще литература неинтересна. Я пытаюсь понять, в чем дело. Это – современность. Современность заключается в том, что всякая наука должна иметь применение. Какое применение может иметь литература? Никакого.
Иван Толстой: Ну, что понимать под словом "применение".
Борис Аверин: Вот я окончил, и что я буду делать с "Войной и миром"? Раньше было много музеев, Институт русской литературы, издательства, радио, телевидение, и устраивать детей филологов было нетрудно. Я практически всех устраивал на какую-то работу. А сейчас я никого не могу устроить. Два года назад в Петербурге была такая хорошая радиостанция, где я регулярно делал передачи про современную литературу, потому что я читаю всю современную литературу. Теперь нет такого, теперь, чтобы рецензию опубликовать, я отнесу ее в "Звезду", через полгода опубликуют. Так вот, чтобы кто-нибудь задал вопрос, как надо жить и что нужно делать, – нет таких вопросов.
На западном отделении у меня был такой курс, они постоянно задавали мне вопросы про произведения. Я лекцию практически не читал, все время отвечал на вопросы. Сейчас я говорю: "Вопросы есть?" – "Вопросов нет". Никто из студентов никаких вопросов не задаёт.
Иван Толстой: Тем не менее, вы были бы не вы, если бы вы не вкладывали далекоидущие, долгозреющие идеи, если бы вы зерно не заранивали в землю в своих лекциях. Чему вы учите на самом деле? Вроде бы литературе, а на самом деле…
Борис Аверин: На самом деле, если брать терминологию, то это элементарное толстовство, без крайности. Я не пойду с нищими в ночлежку, но тем не менее, делать карьеру, зарабатывать много денег, завидовать ближнему, осуждать ближнего – ни в коем случае. Не суди. Подставь другую щеку.
Когда я начал осваивать толстовство, я помню яркий эпизод. Шел дождик, я подхожу к магазину, мне нужно купить пачку "Родопи". Магазин пустой, беседует кассирша с продавщицей. Я говорю: "Будьте добры пачку "Родопи". А они беседуют про мальчиков. Я послушал, а потом говорю: "Простите великодушно, можно мне пачку "Родопи"?". Ответ – молчание. Я снова повторяю. А мне говорят: "Вот ты шары-то налил, а теперь требуешь чего-то". Тут бы мне надо ответить, что, мол, повежливее нельзя? Я говорю: "Девушка, вы меня обижаете". Это шел дождь, и у меня такая была прическа на лоб. Вы знаете, она покраснела. Если бы я ответил ей как надо – мать-перемать. Нет, не обижайся, прости. Но у нее действительно интересный разговор.
И вот это и есть толстовство. Встань на точку зрения другого человека, не осуждай, даже если он явно не прав, потому что мы все неправы друг перед другом. И не осуди.
Перепеку я недавно всю наизусть выучил Толстого с императорами. Александру III он говорит: понимаете, их надо простить. У вас есть два способа – или жестокость, или какие-то либеральные последствия. Ни то, ни другое не работает. Вот они убили, а вы скажите: вы виновны, вы страшно виновны, но мы вас прощаем и не казним. Казнили. Вот если бы послушались Толстого и Владимира Соловьева и сказали: вы страшно виноваты, но убивать людей нельзя. Тем более что вы начитались Гаршина, но Гаршин что говорит? Он вырвал цветок красный и прижал к груди. "Если ты поднимаешь знамя красное, то это знамя должно быть смочено твоей собственной кровью, но не чужой". Это я процитировал своего учителя, статья о Гаршине. Я процитировал, а редактор тома говорит, что это банальность, это вычеркните. И ссылку убрали. Я говорю: "Абрам Константинович, извините, вычеркнули ссылку". – "Да ну, ерунда, никто не заметит". Потому что убить Государя императора? Ну и что? Почитайте Горького, он пишет в "Городке Окурове", что пришло сведение, что убит Александр II, понять этого никак невозможно, а дальше – опять городские новости. Никакого впечатления на российскую действительность это действие не произвело. А если бы вы простили? Я думаю, так бы активно не стало развиваться. Надо было прервать эту жестокую последовательность, когда вместо того, что возлюбить ближнего, мы хотим менять социальный строй. Да, давайте, меняйте, только вы не хлебом единым, не получится у вас, равенства бытового не будет никогда.
Вот у вас ни одного седого волоса нет, а я – седой как лунь. Ну, неравенство. И во всем неравенство. А вы хотите мне бытовое равенство? Получится жуткая борьба и зависть, если мы будем добиваться бытового равенства. И чему Толстой учит? Говорят, что я отказываюсь от Бога, от Христа. Да наоборот. Когда я читал критику догматического богословия, я первые пять страниц читал с ужасом. Это страшное обвинение церкви в том, что они затемняют учение Христа. А потом я прочел воспоминания дочери. Он дает переписывать жене, жена переписала четыре страницы, потом в жутком возмущении врывается в кабинет и говорит: "Я этого переписывать не буду!" Страшно, правда, потому что он очень сильно ополчился на церковь. Я подхожу к священнику и говорю, что я вашу всю службу прослушал, я старославянский учил, но я половины не понял, о чем вы тут говорите, а ваши прихожане, которые не знают, они же вообще ничего не понимают, почему бы не перейти на русский? А он мне говорит: "Можно, но будет некрасиво". На старославянском красиво звучит. Конечно, гимназисты изучали старославянский, а сейчас его никто не знает. Ну, служба – красиво, хор, но в целом содержание не доходит никак. И это немножко обидно. Мне рассказывали, что в Москве в одной церкви ввели службу на русском языке. Очереди стояли километровые. Потом закрыли. Нельзя. Надо чтить язык и веру предков.
Иван Толстой: Красота и есть воздержание.
Борис Аверин: Вы-то понимаете. А вы учились на русском отделении?
Иван Толстой: На русском. И по старославянскому была твердая двойка.
Борис Аверин: А у кого диплом писали?
Иван Толстой: По старославянскому у меня была Татьяна Всеволодовна Рождественская.
Борис Аверин: Ну, она тогда маленькая была.
Иван Толстой: Но я таким старым уже учился, у меня вся жизнь прошла, я до этого в медицинском институте учился. Потом работал экскурсоводом в Пушкинских горах. А когда поступил на первый курс, преподавателем у меня была только что окончившая филфак моя одноклассница, и она все время была пунцовая, ей было так неудобно – сидел на первой парте большой, толстый я, а она мне преподавала. А я ее Люська и на "ты", и за косы дергал в школе.
Борис Аверин: У меня похожий был эпизод. Я, когда окончил, я сразу же после окончания начал преподавать. Ко мне приходит однокурсница, с которой я учился и сидел на одной парте. А она отстала, не успевала, ей трудно было учиться. Она говорит: "Поставь мне отметку". – "Конечно!". И пишу ту оценку, которую она заслуживает, – "удовл.". Она так оскорбилась! Больше со мной не разговаривала.
Иван Толстой: Это не по-толстовски!
Борис Аверин: Но я же ее не спрашивал. А вот недавний ответ, чтобы позабавить вас в конце нашей беседы. Девочка отвечает "Войну и мир", я говорю: "Скажите, пожалуйста, а в чем там дело?" – "Понимаете, там описывается война, а вместе с войной описывается и мир". – "Отличный ответ! А с кем была война?" Она говорит: "С турками".
Иван Толстой: А кто победил?
Борис Аверин: А черт его знает! У нас есть кафе, называется "Бородино". Я спросил официанта, что такое Бородино? "Откуда я знаю?" Последняя байка была два года назад на факультете журналистики. "Анну Каренину" отвечает студент. Я говорю: "А чем заканчивается роман?" – "Она бросается под поезд". – "Правильно! А дальше что?" Он задумывается и говорит: "Но не умерла".
Интервью для издания "Эксперт Северо-Запад" №10-11 (698) "Бабочки и смерть Владимира Набокова"
Борис Аверин – профессор кафедры истории русской литературы филологического факультета и ведущий исследователь творчества Владимира Набокова, хотя и его собственное творчество заслуживает пристального внимания. На его лекции собираются полные залы. «Легче, когда в аудитории есть два-три человека, которые понимают, – говорит он. – Неважно, в какой аудитории, если они есть, – читать легко»
Борис Аверин со свойственной ему легкостью и оптимизмом согласился записать беседу о В.В. Набокове для журнала «Эксперт С-З», полагая, что среди его читателей всегда найдутся эти «два-три человека».
– Читателям, конечно же, хорошо известно, что есть всего три философии, о которых нужно знать. Скажем, монадология Лейбница (забавно обыгранная Виктором Пелевиным в романе «Чапаев и Пустота». – «Эксперт С-З») – это вещь мало нужная, то же можно сказать и о всевозможных Фалесах, Пифагорах и Архимедах. А вот дарвинизм всем нужен, потому что мы с вами, оказывается, это определенный этап эволюции: была инфузория-туфелька, а потом возникли мы. Это известно всем. Вторая философия, общеизвестная, – это марксизм: есть классы, пролетариат и так далее, и тому подобное. Кто-то все время пытается извлечь доходы из бедного пролетариата. Это неинтересно совсем. Хотя поражают современные молодые люди, которые начинают читать Маркса. Это же скука смертная! Только за большие грехи можно наказывать себя чтением Маркса. И третья философия – это фрейдизм. Это, конечно же, всем интересно, потому что про секс. Все об этом все знают, но подробно никто не читал. Для Набокова это три неприемлемых философии, потому что они материалистичны. Дарвин объясняет нас эволюцией, Маркс – производственными отношениями, ну а Фрейд – вовсе сумасшедший. Поэтому Набоков в своих произведениях издевался над этими тремя философиями, иногда откровенно, иногда скрыто.
– Когда вспоминают о Набокове, говорят не о Марксе, Фрейде или Дарвине, вспоминают в первую очередь о бабочках. Почему?
– Почему бабочки? А потому что бабочки противоречат Дарвину. Потому что в процессе приспособления бабочка должна быть похожа на сухой листик или еще на что-то, чтобы крылышки было не видно хищникам. А бабочки в процессе эволюции перешли некую грань вместо того, чтобы мимикрировать, стать невидимыми никому, например птице, главному ее врагу. Бабочка же, наоборот, переходит эту грань только красоты ради, потому что цель развития всего в природе – это красота. Вот и бабочка стремится туда, к этой цели. Она нарушает, таким образом, закон эволюции Дарвина. Набоков с помощью бабочек опровергает Дарвина. Это очень уютно.
– Как же опровергнуть Фрейда?
– О том, как опровергать Фрейда, даже и говорить не стоит, это просто неприлично. Хотя когда мы говорим о бессознательном, то здесь я и вправду многое отказываюсь понимать. Гореть ему в аду! Фрейд же какой-то ненормальный.
– Как и любой ученый?
– Нет, он хуже! Ну что это такое – он у меня нашел эдипов комплекс. То есть, по Фрейду, я люблю и ненавижу отца, люблю – потому что отец, и ненавижу – потому что воспринимаю его как сексуального соперника в любви к матери. Но это ж надо догадаться! С ума можно сойти!
– Оставим Фрейда и вернемся к Набокову.
– Да, конечно. Интерес Набокова к бабочкам связан с дарвинизмом, потому что, когда бабочка становится заметной, она нарушает закон мимикрии. Но на этом интерес к бабочкам не исчерпывается. Это целая наука: бабочка проходит за свою жизнь три этапа преодоления смерти (собственно бабочка, куколка, гусеница) и тем самым доказывает мысль о том, что мы бессмертны.
– А как это соотносится с религией? Набоков религиозен?
– Что касается церкви, то, конечно, Набоков изучал этот вопрос, изучал всевозможные теории смерти, его интересовало, что будет с нами после смерти. Дело вот в чем: все религии строятся на том, что наша бренная плоть погибает в этом мире, а дальше… дальше происходит нечто. Что именно происходит – разные религии отвечают по-разному. Вот, например, египтяне. Недавно посетил я египетские пирамиды, понял, наконец, что имел в виду Иван Бунин, когда он говорил: «Молчат гробницы, мумии и кости, – лишь слову жизнь дана…» Так вот в гробнице, где хранится саркофаг, можно увидеть иероглифы на стенах. То самое бунинское «слово», там «звучат лишь письмена». Это «Книга мертвых», рассказ о том, как надо переходить в это состояние из жизни к вечной жизни. Вы нигде, ни на одной фреске не найдете горестного лица, потому что после смерти я приобщаюсь к вечному, великому. Это «святой иероглИф», ключ, который открывает дверь в вечность. Поэтому египтяне принимают смерть с радостью. Так и все остальные религии. Есть только одна симпатичная религия – это атеизм, которая говорит, что я умер – и все, это конец, и ничего там нет. Какой там Бог?
Вот этим вопросом задается и Набоков. Ему от этого вопроса не уйти. Никогда и никому не узнать, как есть на самом деле, даже если читать книжки, заниматься изучением мифов, фольклором, литературой. Набоков изображает состояние перехода, перехода от жизни к смерти. Именно об этом одно из самых ранних его произведений – пьеса «Смерть». Там магистр Гонвил дает якобы яд студенту, желающему умереть, читатель же наблюдает за тем, как он умирает. Перед этим он объясняет, что есть инерция умирания – это тот период, когда я между жизнью и смертью, и время для меня протекает совсем по-другому.
Эту инерцию изображает и Лев Толстой, когда в «Севастопольских рассказах» говорит, что переживает офицер, а дальше добавляет: «Он был убит на месте осколком в середину груди». Но при этом это такой подробный, длинный рассказ от лица умирающего. Это вот и есть инерция, вот эта самая инерция жизни. То же самое происходит под зорким наблюдением нашего магистра. Есть и другие примеры. Так, ничего не сказано о смерти и в «Защите Лужина». Какая именно вечность, угодливая и неумолимая, ждала Лужина? Там внизу «собирались, выравнивались отражения окон, вся бездна распадалась на бледные и темные квадраты… Дверь выбили. «Александр Иванович, Александр Иванович!» – заревело несколько голосов. Но никакого Александра Ивановича не было». На протяжении всего романа мы ни о каком Александре Ивановиче не знали, но кто же зовет его? Вероятно, Бог. Потому что Лужина там ждут, он совершает переход от жизни к смерти. Если же брать другие произведения Набокова, там это отражается просто – переход. Как тут не вспомнить Чернышевского-старшего из романа «Дар», который окончательно сходит с ума, и ему кажется, что он уже там, в вечности, общается с умершим сыном. Ну и так далее. Эта главная тема Набокова во всех его произведениях.
– Звучит не слишком оптимистично.
– Неправда. Набоков самый оптимистический писатель ХХ века. Более позитивного писателя найти в этом столетии невозможно.
– Но ведь далеко не все герои у Набокова оптимисты, да и приятными их назвать сложно.
– Конечно, у него есть некоторые противные герои, скажем, например, Марта. В романе «Король, Дама, Валет» Набоков изображает то, что всегда было интересно, а именно: как в нашем сознании рождается мысль и какие стадии она проходит.
– Как рождается мысль о смерти, об убийстве?
– Мысль об убийстве – это важно, но в начале какая рождается мысль? О том, что они любят друг друга. Это любовный треугольник, любовник, жена Драйера, сам Драйер. И она вдруг приходит к мысли «Мы же любим друг друга, а значит – мы должны быть счастливы, и мы в своем праве». Мысль о том, что они «в своем праве быть счастливыми». Чудовищно. Ну а если они в своем праве, то выход очень простой – надо убить третьего. А как убить? И вот тут-то большая проблема. Она решает отравить.
На нашем семинаре мы часто говорим о некоем Козлове. Был такой родственник у Набокова – Козлов, врач, который написал несколько книг под названием «Идея болезни». Набоков в «Других берегах» упоминает о нем. Первая работа, которую опубликовал Козлов и получил золотую медаль за нее, называется «Яды». И вот эта самая наша Марта хочет отравить супруга, но опять какие-то сложности: во-первых, надо купить яд, во-вторых, его надо как-то дать, в-третьих, будет же вскрытие после смерти, и она понимает, что с ядом ничего не выйдет. Мысль следует дальше. Застрелить? Прекрасная мысль. Но опять же – куча препятствий: оружие, пистолет оказывается простой зажигалкой, значит, надо купить другое, для этого нужны документы, а значит – ты сам себя проявляешь, а кроме того – муж же не неподвижная мишень, которую вывешивают в тире, он же ходит, он же думает. Тогда мысль продолжает работать, потому что мысль человека все время работает, – проходит несколько стадий, это очень интересно (так же как и мы в понимании бессмертия проходим ступени). И вдруг Марта вспоминает, что Франц, ее возлюбленный, да и она, выросли в деревне, где была речка, а Драйер вообще никогда не плавал. Возникает блестящая идея – утопить его. Они разработали план: достаточно перевернуть лодку, можно еще и веслом по голове… Но тут вдруг Драйер говорит о том, что ему нужно уехать ради крупной сделки, и Марта от жадности решает подождать. И вот это зря, потому что она простудилась. Она умирает, а умирая, видит, как тонет Драйер. Она улыбается, как бывает перед смертью даже с такими персонажами, как Марта. Она улыбается, а Драйер «больше всего в жизни любил ее улыбку»… Вот это и есть очень сложный процесс, процесс мышления, рассматриваемый очень подробно, все его стадии развития.
Но в случае с другими еще сложнее, скажем, с «Машенькой». Главный герой романа, Ганин, забыл о ней, но ведь у него в портфеле, между прочим, хранятся письма Машеньки! А он и забыл, и он шаг за шагом вспоминает о ней. Но там проблема совершенно в другом. Здесь Набоков ненов, примеров можно много привести. Они общеизвестны, тот же Толстой, который очень подробно описывает стадии мышления, умирания, но что-то его все равно смущает. Поэтому Толстой за определенную грань все же не зашел. Вот, например, «Алеша Горшок», рассказ Льва Толстого, который очень по-набоковски написан. Дело в том, что этот самый Алеша очень хотел всем услужить, обо всех позаботиться. И вдруг он встречает Устинью, которая, как он видит, к нему по-особенному относится. Это для него было откровением, и он тут же делает ей предложение. Но потом приехал купец и сказал: «Выбрось это из головы», и он выбросил, а через неделю упал с крыши и умер. Толстой дальше потрясающе описывает, что происходит, когда Алеша умирает: «Говорил он мало. Только просил пить и все чему-то удивлялся. Удивился чему-то, потянулся и помер». Толстой не позволяет себе, как, впрочем, и Набоков, описывать, что там, за гранью. А вот что там точно что-то есть, в этом мы можем даже не сомневаться. И вот поэтому вот «удивился и помер».
– Лужин тоже ведь удивляется тому, что его ждут... Или это происходит в его воображении?
– Это точное наблюдение. Гете говорил (и Набоков с ним совершенно соглашается), что наука только тогда бывает наукой, если она строится на воображении. Только воображение и есть. Логики не было никогда и не будет. Если ученый не обладает воображением, он не ученый, он ничего не придумает, только зря потратит время. «Будь только вымыслу верна… – говорит главный герой романа «Дар» Годунов-Чердынцев своей возлюбленной. – Не верь только небылицам, что после смерти ничего нет, не говори, что там стена». Только в воображении мысль и проявляет себя. Но только проявляет. Подробно описать, что там да как, невозможно. Воображение – это и есть рай. И вот этим-то ХХ век и может похвастаться при всем его чудовищном безобразии, потому что большего безобразия, чем в ХХ век, никогда не было.
Интервью Анастасия Козакевич
Борис Аверин со свойственной ему легкостью и оптимизмом согласился записать беседу о В.В. Набокове для журнала «Эксперт С-З», полагая, что среди его читателей всегда найдутся эти «два-три человека».
– Читателям, конечно же, хорошо известно, что есть всего три философии, о которых нужно знать. Скажем, монадология Лейбница (забавно обыгранная Виктором Пелевиным в романе «Чапаев и Пустота». – «Эксперт С-З») – это вещь мало нужная, то же можно сказать и о всевозможных Фалесах, Пифагорах и Архимедах. А вот дарвинизм всем нужен, потому что мы с вами, оказывается, это определенный этап эволюции: была инфузория-туфелька, а потом возникли мы. Это известно всем. Вторая философия, общеизвестная, – это марксизм: есть классы, пролетариат и так далее, и тому подобное. Кто-то все время пытается извлечь доходы из бедного пролетариата. Это неинтересно совсем. Хотя поражают современные молодые люди, которые начинают читать Маркса. Это же скука смертная! Только за большие грехи можно наказывать себя чтением Маркса. И третья философия – это фрейдизм. Это, конечно же, всем интересно, потому что про секс. Все об этом все знают, но подробно никто не читал. Для Набокова это три неприемлемых философии, потому что они материалистичны. Дарвин объясняет нас эволюцией, Маркс – производственными отношениями, ну а Фрейд – вовсе сумасшедший. Поэтому Набоков в своих произведениях издевался над этими тремя философиями, иногда откровенно, иногда скрыто.
– Когда вспоминают о Набокове, говорят не о Марксе, Фрейде или Дарвине, вспоминают в первую очередь о бабочках. Почему?
– Почему бабочки? А потому что бабочки противоречат Дарвину. Потому что в процессе приспособления бабочка должна быть похожа на сухой листик или еще на что-то, чтобы крылышки было не видно хищникам. А бабочки в процессе эволюции перешли некую грань вместо того, чтобы мимикрировать, стать невидимыми никому, например птице, главному ее врагу. Бабочка же, наоборот, переходит эту грань только красоты ради, потому что цель развития всего в природе – это красота. Вот и бабочка стремится туда, к этой цели. Она нарушает, таким образом, закон эволюции Дарвина. Набоков с помощью бабочек опровергает Дарвина. Это очень уютно.
– Как же опровергнуть Фрейда?
– О том, как опровергать Фрейда, даже и говорить не стоит, это просто неприлично. Хотя когда мы говорим о бессознательном, то здесь я и вправду многое отказываюсь понимать. Гореть ему в аду! Фрейд же какой-то ненормальный.
– Как и любой ученый?
– Нет, он хуже! Ну что это такое – он у меня нашел эдипов комплекс. То есть, по Фрейду, я люблю и ненавижу отца, люблю – потому что отец, и ненавижу – потому что воспринимаю его как сексуального соперника в любви к матери. Но это ж надо догадаться! С ума можно сойти!
– Оставим Фрейда и вернемся к Набокову.
– Да, конечно. Интерес Набокова к бабочкам связан с дарвинизмом, потому что, когда бабочка становится заметной, она нарушает закон мимикрии. Но на этом интерес к бабочкам не исчерпывается. Это целая наука: бабочка проходит за свою жизнь три этапа преодоления смерти (собственно бабочка, куколка, гусеница) и тем самым доказывает мысль о том, что мы бессмертны.
– А как это соотносится с религией? Набоков религиозен?
– Что касается церкви, то, конечно, Набоков изучал этот вопрос, изучал всевозможные теории смерти, его интересовало, что будет с нами после смерти. Дело вот в чем: все религии строятся на том, что наша бренная плоть погибает в этом мире, а дальше… дальше происходит нечто. Что именно происходит – разные религии отвечают по-разному. Вот, например, египтяне. Недавно посетил я египетские пирамиды, понял, наконец, что имел в виду Иван Бунин, когда он говорил: «Молчат гробницы, мумии и кости, – лишь слову жизнь дана…» Так вот в гробнице, где хранится саркофаг, можно увидеть иероглифы на стенах. То самое бунинское «слово», там «звучат лишь письмена». Это «Книга мертвых», рассказ о том, как надо переходить в это состояние из жизни к вечной жизни. Вы нигде, ни на одной фреске не найдете горестного лица, потому что после смерти я приобщаюсь к вечному, великому. Это «святой иероглИф», ключ, который открывает дверь в вечность. Поэтому египтяне принимают смерть с радостью. Так и все остальные религии. Есть только одна симпатичная религия – это атеизм, которая говорит, что я умер – и все, это конец, и ничего там нет. Какой там Бог?
Вот этим вопросом задается и Набоков. Ему от этого вопроса не уйти. Никогда и никому не узнать, как есть на самом деле, даже если читать книжки, заниматься изучением мифов, фольклором, литературой. Набоков изображает состояние перехода, перехода от жизни к смерти. Именно об этом одно из самых ранних его произведений – пьеса «Смерть». Там магистр Гонвил дает якобы яд студенту, желающему умереть, читатель же наблюдает за тем, как он умирает. Перед этим он объясняет, что есть инерция умирания – это тот период, когда я между жизнью и смертью, и время для меня протекает совсем по-другому.
Эту инерцию изображает и Лев Толстой, когда в «Севастопольских рассказах» говорит, что переживает офицер, а дальше добавляет: «Он был убит на месте осколком в середину груди». Но при этом это такой подробный, длинный рассказ от лица умирающего. Это вот и есть инерция, вот эта самая инерция жизни. То же самое происходит под зорким наблюдением нашего магистра. Есть и другие примеры. Так, ничего не сказано о смерти и в «Защите Лужина». Какая именно вечность, угодливая и неумолимая, ждала Лужина? Там внизу «собирались, выравнивались отражения окон, вся бездна распадалась на бледные и темные квадраты… Дверь выбили. «Александр Иванович, Александр Иванович!» – заревело несколько голосов. Но никакого Александра Ивановича не было». На протяжении всего романа мы ни о каком Александре Ивановиче не знали, но кто же зовет его? Вероятно, Бог. Потому что Лужина там ждут, он совершает переход от жизни к смерти. Если же брать другие произведения Набокова, там это отражается просто – переход. Как тут не вспомнить Чернышевского-старшего из романа «Дар», который окончательно сходит с ума, и ему кажется, что он уже там, в вечности, общается с умершим сыном. Ну и так далее. Эта главная тема Набокова во всех его произведениях.
– Звучит не слишком оптимистично.
– Неправда. Набоков самый оптимистический писатель ХХ века. Более позитивного писателя найти в этом столетии невозможно.
– Но ведь далеко не все герои у Набокова оптимисты, да и приятными их назвать сложно.
– Конечно, у него есть некоторые противные герои, скажем, например, Марта. В романе «Король, Дама, Валет» Набоков изображает то, что всегда было интересно, а именно: как в нашем сознании рождается мысль и какие стадии она проходит.
– Как рождается мысль о смерти, об убийстве?
– Мысль об убийстве – это важно, но в начале какая рождается мысль? О том, что они любят друг друга. Это любовный треугольник, любовник, жена Драйера, сам Драйер. И она вдруг приходит к мысли «Мы же любим друг друга, а значит – мы должны быть счастливы, и мы в своем праве». Мысль о том, что они «в своем праве быть счастливыми». Чудовищно. Ну а если они в своем праве, то выход очень простой – надо убить третьего. А как убить? И вот тут-то большая проблема. Она решает отравить.
На нашем семинаре мы часто говорим о некоем Козлове. Был такой родственник у Набокова – Козлов, врач, который написал несколько книг под названием «Идея болезни». Набоков в «Других берегах» упоминает о нем. Первая работа, которую опубликовал Козлов и получил золотую медаль за нее, называется «Яды». И вот эта самая наша Марта хочет отравить супруга, но опять какие-то сложности: во-первых, надо купить яд, во-вторых, его надо как-то дать, в-третьих, будет же вскрытие после смерти, и она понимает, что с ядом ничего не выйдет. Мысль следует дальше. Застрелить? Прекрасная мысль. Но опять же – куча препятствий: оружие, пистолет оказывается простой зажигалкой, значит, надо купить другое, для этого нужны документы, а значит – ты сам себя проявляешь, а кроме того – муж же не неподвижная мишень, которую вывешивают в тире, он же ходит, он же думает. Тогда мысль продолжает работать, потому что мысль человека все время работает, – проходит несколько стадий, это очень интересно (так же как и мы в понимании бессмертия проходим ступени). И вдруг Марта вспоминает, что Франц, ее возлюбленный, да и она, выросли в деревне, где была речка, а Драйер вообще никогда не плавал. Возникает блестящая идея – утопить его. Они разработали план: достаточно перевернуть лодку, можно еще и веслом по голове… Но тут вдруг Драйер говорит о том, что ему нужно уехать ради крупной сделки, и Марта от жадности решает подождать. И вот это зря, потому что она простудилась. Она умирает, а умирая, видит, как тонет Драйер. Она улыбается, как бывает перед смертью даже с такими персонажами, как Марта. Она улыбается, а Драйер «больше всего в жизни любил ее улыбку»… Вот это и есть очень сложный процесс, процесс мышления, рассматриваемый очень подробно, все его стадии развития.
Но в случае с другими еще сложнее, скажем, с «Машенькой». Главный герой романа, Ганин, забыл о ней, но ведь у него в портфеле, между прочим, хранятся письма Машеньки! А он и забыл, и он шаг за шагом вспоминает о ней. Но там проблема совершенно в другом. Здесь Набоков ненов, примеров можно много привести. Они общеизвестны, тот же Толстой, который очень подробно описывает стадии мышления, умирания, но что-то его все равно смущает. Поэтому Толстой за определенную грань все же не зашел. Вот, например, «Алеша Горшок», рассказ Льва Толстого, который очень по-набоковски написан. Дело в том, что этот самый Алеша очень хотел всем услужить, обо всех позаботиться. И вдруг он встречает Устинью, которая, как он видит, к нему по-особенному относится. Это для него было откровением, и он тут же делает ей предложение. Но потом приехал купец и сказал: «Выбрось это из головы», и он выбросил, а через неделю упал с крыши и умер. Толстой дальше потрясающе описывает, что происходит, когда Алеша умирает: «Говорил он мало. Только просил пить и все чему-то удивлялся. Удивился чему-то, потянулся и помер». Толстой не позволяет себе, как, впрочем, и Набоков, описывать, что там, за гранью. А вот что там точно что-то есть, в этом мы можем даже не сомневаться. И вот поэтому вот «удивился и помер».
– Лужин тоже ведь удивляется тому, что его ждут... Или это происходит в его воображении?
– Это точное наблюдение. Гете говорил (и Набоков с ним совершенно соглашается), что наука только тогда бывает наукой, если она строится на воображении. Только воображение и есть. Логики не было никогда и не будет. Если ученый не обладает воображением, он не ученый, он ничего не придумает, только зря потратит время. «Будь только вымыслу верна… – говорит главный герой романа «Дар» Годунов-Чердынцев своей возлюбленной. – Не верь только небылицам, что после смерти ничего нет, не говори, что там стена». Только в воображении мысль и проявляет себя. Но только проявляет. Подробно описать, что там да как, невозможно. Воображение – это и есть рай. И вот этим-то ХХ век и может похвастаться при всем его чудовищном безобразии, потому что большего безобразия, чем в ХХ век, никогда не было.
Интервью Анастасия Козакевич
О программе "Мистика Любви" - "Новая Газета" выпуск от 11.04.2008 №14
На канале «Культура» появилась новая программа филолога и писателя Бориса Аверина. О том, что это за проект, нам рассказал автор:
— Под мистикой всегда понимается что-то необъяснимое, нерациональное. Всегда, когда пытаются дать объяснение названию, всегда его делают плоским и скучным. Само слово «мистика» в последнее время стало очень популярным. Это связано с какими-то ведьмами, пришельцами из космоса и так далее. На самом деле мистика — это очень просто, это измененное состояние сознания. Мистические эпизоды, случаи, происшествия, сюжеты многократно запечатлены в мемуарной, документальной и художественной литературе. Я беру только документы, меня не интересуют сны, сказания, вурдалаки и все, что связано с низшим демонологическим миром, ведьмы, например, или лешие (которые, кстати, и симпатичные бывают). Я взял совершенно простые сюжеты. Первый — Жуковский. Он — один из глубочайших мистиков, который очень рано понял, что для мистики нет языка, и поэтому сформулировал свой тезис так: «Невыразимое подвластно ль выраженью?». Вот это то самое, что не передается на языке логики или плохо передается, потому что у нас в сознании существует какая-то внутренняя цензура. А «мистика» в переводе значит — таинственное, имеющее отношение к тайне человеческого бытия. Вот Жуковский, один из великих мистиков, описал вот эти самые события мистические, которые с ним происходили, в своей поэзии, в своей прозе и в своих критических статьях. Мы просто это не умеем читать.
Интересно проследить мистические начала на тех людях, которые никогда об этом не задумывались и под словом «мистика» понимали, что это какая-то ерунда. Поэтому сюжет о Толстом связан с тем, как мистически воспринимала мир его невеста, Софья Андреевна Толстая, после того как он сделал ей предложение. Это вторая серия — любовные взаимоотношения, ранние, периода сватовства и женитьбы Толстого и Софьи Андреевны.
Третья и четвертая серии посвящены началу двадцатого века. Жуковский вдруг снова стал одной из центральных фигур. Когда Блока спрашивают, какой для него самый главный поэт, он называет не Пушкина, не Лермонтова, не Тютчева, а называет Жуковского. Именно к началу века публикуются почти полностью дневники Жуковского, когда становится ясен его внутренний мир. Блок читает дневники Жуковского и пишет стихотворение «Предчувствую тебя…». Вот самая истинная мистическая любовь, она всегда связана с предчувствием такой любви, со знанием об этой любви задолго до того, как она произойдет.
В основу следующей серии берется мистический роман Андрея Белого и Маргариты Кирилловны Морозовой, знаменитой купчихи, крупнейшей культурной деятельницы. Это мистический роман в письмах, там поразительные тексты и поразительные события.
А четвертая серия посвящена любовному треугольнику — Брюсов, Андрей Белый и Нина Петровская. Нина Петровская, как и полагается девушке в юном возрасте, ищет учителя. Она находит Андрея Белого, который рассказывает ей о сути мистического восприятия мира, и она в него влюбляется и почитает его пророком. Но пророком Андрей Белый быть не хотел. Это роль, которая неприятна и не нужна никому из нормальных людей, а такой сильной ответной любви у него не было. Тем не менее эта мистическая любовь для Андрея Белого как-то случайно перешла в обычную. Поэтому Андрей Белый бежал от Нины Петровской. Она невероятно страдала от этого разрыва и тут встретилась с Брюсовым, который писал роман и для романа ему нужна была героиня, ему нужен был прототип. Ему были очень интересны эти любовные переживания Нины Петровской, сама эта личность, все, что она говорила, он записывал, превращал в роман, а потом случилось то, что должно было случиться, — он влюбился. Нина Петровская, которая любила Андрея Белого, влюбилась и в Брюсова. И все эти события воплотились в романе под названием «Огненный ангел». Таким образом, у нас в сериале — дневники, письма и автобиографический роман. И никакой другой мистики, кроме документированной.
— Под мистикой всегда понимается что-то необъяснимое, нерациональное. Всегда, когда пытаются дать объяснение названию, всегда его делают плоским и скучным. Само слово «мистика» в последнее время стало очень популярным. Это связано с какими-то ведьмами, пришельцами из космоса и так далее. На самом деле мистика — это очень просто, это измененное состояние сознания. Мистические эпизоды, случаи, происшествия, сюжеты многократно запечатлены в мемуарной, документальной и художественной литературе. Я беру только документы, меня не интересуют сны, сказания, вурдалаки и все, что связано с низшим демонологическим миром, ведьмы, например, или лешие (которые, кстати, и симпатичные бывают). Я взял совершенно простые сюжеты. Первый — Жуковский. Он — один из глубочайших мистиков, который очень рано понял, что для мистики нет языка, и поэтому сформулировал свой тезис так: «Невыразимое подвластно ль выраженью?». Вот это то самое, что не передается на языке логики или плохо передается, потому что у нас в сознании существует какая-то внутренняя цензура. А «мистика» в переводе значит — таинственное, имеющее отношение к тайне человеческого бытия. Вот Жуковский, один из великих мистиков, описал вот эти самые события мистические, которые с ним происходили, в своей поэзии, в своей прозе и в своих критических статьях. Мы просто это не умеем читать.
Интересно проследить мистические начала на тех людях, которые никогда об этом не задумывались и под словом «мистика» понимали, что это какая-то ерунда. Поэтому сюжет о Толстом связан с тем, как мистически воспринимала мир его невеста, Софья Андреевна Толстая, после того как он сделал ей предложение. Это вторая серия — любовные взаимоотношения, ранние, периода сватовства и женитьбы Толстого и Софьи Андреевны.
Третья и четвертая серии посвящены началу двадцатого века. Жуковский вдруг снова стал одной из центральных фигур. Когда Блока спрашивают, какой для него самый главный поэт, он называет не Пушкина, не Лермонтова, не Тютчева, а называет Жуковского. Именно к началу века публикуются почти полностью дневники Жуковского, когда становится ясен его внутренний мир. Блок читает дневники Жуковского и пишет стихотворение «Предчувствую тебя…». Вот самая истинная мистическая любовь, она всегда связана с предчувствием такой любви, со знанием об этой любви задолго до того, как она произойдет.
В основу следующей серии берется мистический роман Андрея Белого и Маргариты Кирилловны Морозовой, знаменитой купчихи, крупнейшей культурной деятельницы. Это мистический роман в письмах, там поразительные тексты и поразительные события.
А четвертая серия посвящена любовному треугольнику — Брюсов, Андрей Белый и Нина Петровская. Нина Петровская, как и полагается девушке в юном возрасте, ищет учителя. Она находит Андрея Белого, который рассказывает ей о сути мистического восприятия мира, и она в него влюбляется и почитает его пророком. Но пророком Андрей Белый быть не хотел. Это роль, которая неприятна и не нужна никому из нормальных людей, а такой сильной ответной любви у него не было. Тем не менее эта мистическая любовь для Андрея Белого как-то случайно перешла в обычную. Поэтому Андрей Белый бежал от Нины Петровской. Она невероятно страдала от этого разрыва и тут встретилась с Брюсовым, который писал роман и для романа ему нужна была героиня, ему нужен был прототип. Ему были очень интересны эти любовные переживания Нины Петровской, сама эта личность, все, что она говорила, он записывал, превращал в роман, а потом случилось то, что должно было случиться, — он влюбился. Нина Петровская, которая любила Андрея Белого, влюбилась и в Брюсова. И все эти события воплотились в романе под названием «Огненный ангел». Таким образом, у нас в сериале — дневники, письма и автобиографический роман. И никакой другой мистики, кроме документированной.
Для интернет-портала «Золотой фонд лекций "Русского мира"» - "Мне нужно то, чего нет на свете"
Ваши лекции, представленные на интернет-портале «Золотой фонд лекций "Русского мира"», посвящены реализму и мистицизму русской литературы Серебряного века.
Да.
Можно с этого начать?
Давайте, но начну я с того затруднительного положения, в которое попал, когда учился на четвертом курсе университета. Надо было сдавать символизм. Я, как человек добросовестный, прочел статьи Вячеслава Иванова, Андрея Белого и сказал себе откровенно: «Я ни одного слова в этих статьях не понимаю». Смысла не вижу никакого. Это было такое сильное ощущение ― я попал в какие-то тексты… И вот однажды я встречаю у Андрея Белого высказывание о том, что в основе этого лежит мистический опыт. То есть опыт чего-то странного, необычного.
Измененное состояние сознания...
Да, да… И вот тут я задаю себе, наверное, первый раз в жизни вопрос: «А со мной что-нибудь подобное бывало? Что-нибудь странное?» И вспоминаю: я ― мальчик, мне 12 лет, вечером иду по кочковатому полю. Солнце уже садится, и вдруг из-под ног вылетает огромная птица. Я пугаюсь, сажусь на кочку и вдруг вижу себя, мальчика, испугавшегося и сидящего на кочке. Как возникло это странное раздвоение сознания? Вот ― я. А вот ― я, наблюдающий самого себя, мальчика, который испугался. Задав себе этот непростой вопрос, я пошел дальше. Нет ли у меня чего-нибудь такого? И вспоминаю, что да. Какое-то странное видение у меня есть. Оно связано с такой картиной: я где-то высоко-высоко, а внизу ― огромное поле высокой травы. И эта трава как-то ритмически движется… Картина ни на что не похожая. Одновременно с этим я вижу скамейку, очень странную, которая наклоняется вот так к стенке, она выщербленная. При чем здесь эта скамейка? Спрашиваю у мамы: «Ты не помнишь, случайно, где-нибудь мы жили, где была такая странная скамейка… Она, ― говорю, ― под углом была, вся выщербленная?» ― «А как же! Неужели, ― говорит, ― ты не помнишь? Я это на всю жизнь запомнила. Ты на эту скамейку лег и умер». Умер я от переедания ― организм, который давно не ел, не справился. Это я умирал, оказывается. Мама говорит: «Я очень хорошо это помню потому, что увидела твою руку, которая висела не так, как обычно у спящего ребенка. Я потрогала, ― она холодная». Когда я это вспомнил, то начал смотреть на литературу совсем иначе.
«Лице свое скрывает день; / Поля покрыла мрачна ночь; <…> Открылась бездна звезд полна; / Звездáм числа нет, бездне дна». Это Ломоносов… Бесконечность представить себе нельзя. Можно все, что угодно представить, кроме бесконечности. Но с попытки представить себе ее начинается движение человеческого разума. И не более, и не менее. Все писатели хотят сказать то, что передать невероятно трудно. «Есть речи ― значенье / Темно иль ничтожно, / Но им без волненья / Внимать невозможно». Что это за речи? Читаю статью Вячеслава Иванова ― темно и ничтожно, но им без волненья внимать невозможно. Оказывается, вот то, о чем сказал Лермонтов. Это слово, которое родилось в огне, то самое слово. Ну а Тютчев? Он весь на этом построен. Правда, он ставит проблему еще жестче: «Как сердцу высказать себя?» Конечно, невозможно сердцу высказать себя. Вот это самое главное, чему нет названия. Если я не могу высказать, то другому как понять? Да никак. «Молчи, скрывайся и таи. / И чувства, и мечты свои!» Невозможна, как бы теперь сказали, коммуникация по самым главным вопросам. А вместе с тем, если об этом не говорить, тогда вообще, о чем говорить? Можем говорить, конечно, о социально-политическом неблагообразии общества, так оно всегда было, есть и будет. И говорить об этом надо, от этого никуда не денешься. Но самое главное в другом... Толстой пишет в Дневнике (1895 год): «Я иногда чувствую, что через меня говорит Бог, только это бывает очень редко потому, что душа грязная». Сразу вспоминаются слова Баздеева, обращенные к Пьеру: «Что ты пытаешься вычитать смысл жизни из книжек? Да ты очисти душу, потому что в грязный сосуд чистое вино наливать не надо». Да? Достоевский с его потрясающим знанием гармонии. Правда, это он чувствует перед эпилепсией. И тот же Толстой, который говорит: «Умереть ― значит, проснуться». И никуда не денешься. А если прочтем у Блока: «Здесь ― страшная печать отверженности женской / За прелесть дивную ― постичь ее нет сил. / Там ― дикий сплав миров, где часть души вселенской / Рыдает, исходя гармонией светил». Это что такое? И вместе с тем, он напишет про поэта: «Простим угрюмство ― разве это / Сокрытый двигатель его? / Он весь ― дитя добра и света, / Он весь ― свободы торжество!» О какой свободе идет речь? О метафизической. Метафизическая свобода пронизывает все творчество Блока. «Пушкин! Тайную свободу / Пели мы вослед тебе. / Дай нам руку в непогоду, / Помоги в немой борьбе...» Это написано им в 1921 году, когда уже ― все, никакой свободы нет, ощущение метафизической свободы. И тогда становится совсем просто и понятно, о чем пишет Владимир Соловьев в строках: «Смерть и Время царят на Земле! / Ты владыками их не зови!» Как же не звать? Время царит, смерть царит. «Все, кружась, исчезает во мгле, / Неподвижно лишь солнце любви». Это что за неподвижность? Вспомним Ньютона: «Всякое движение относительно». Я двигаю рукой. Это какое движение? ― Относительно стола. А стол двигается? ― Двигается. Как? ― С Землей вокруг себя, затем описывает движение относительно… А что неподвижно? Сознание. Неподвижно сознание. Сознание, что это такое? Это ― знание с кем-то. Это ― знание с Богом. С какой точки зрения я смотрю на свое собственное сознание? Вот с этой, неподвижной. Ну, про любовь понятно, это Данте. Что движет мирами? ― Любовь. И тогда литература открывается. Оказывается, вот о чем русская литература, символисты. Символисты, учатся у других. Они учатся понимать Толстого, Достоевского, Шекспира, Данте. Когда Блок читает Платона, вы думаете, что на него Платон повлиял? Да не влиял на него Платон, он узнает себя в учении Платона. Пока у меня в сознании не родилась мысль, я ее у другого не позаимствую. А вот когда она появилась у меня, тогда мне и другой становится ясен. Поэтому влияния (то, что мы называем влиянием) не бывает. Мы говорим: «Пушкин повлиял, Лермонтов и т. д. и т. д.». Такого не бывает. А вот талант влияет. Не цитирование, не высказывание тех же мыслей и ощущений…
То есть фактически каждый пытается объяснить то, что необъяснимо для него?
Да, так. Фактически каждый пытается высказать себя, что невозможно (по Тютчеву) и пытается высказать другому, как понять себя. И пытается наладить этот странный мост. Вот то, о чем Лермонтов пишет: «Я к вам пишу случайно; право / Не знаю как и для чего. / Я потерял уж это право. / И что скажу вам? — ничего! / Что помню вас? — но, Боже правый, / Вы это знаете давно; / И вам, конечно, все равно. / И знать вам также нету нужды, / Где я? что я? в какой глуши? / Душою мы друг другу чужды, / Да вряд ли есть родство души». Вот она, трагедия. Мы бесконечно одиноки. Мы ― эти самые монады по Лейбницу, которые никак не соприкасаются. И попытки соприкосновения, понимания возникают только на этих глубинах. Поэтому, когда Блок и Андрей Белый встретятся, они друг другу не понравятся. Потому что они вдруг там увидят реального поэта. Потом они, правда, подружатся, это несомненно. Вот такова проблема, и когда мы преподаем русскую литературу и этой проблемы не пытаемся затрагивать, мы преподаем что-то другое. Вы верно задаете вопрос. Это свойственно всем реалистам. Вопросы веры беспрерывно мучили Горького. «Отречемся от старого мира! Отряхнем его прах с наших ног!» Герои купцу цитируют, а он говорит: «Это что-то уже давно было». Он Библию хорошо знает ― «отряхнем прах». Нам тоже казалось, что мы что-то новое прочли.
А Вы можете назвать какую-нибудь книгу из русской литературы, которую обязательно должен прочесть любой человек?
Нет, конечно, не могу. Я могу вспомнить, какие книги на меня оказывали особенное влияние. Самая сильная была в девятом классе «Мартин Иден», потому что все молодые люди нацелены на будущее, на карьеру. И это нормально. Просто одни хотят быть богатыми, а другие хотят открыть электрон. Так вот, Мартин Иден добился всего. С каким захватывающим волнением я следил за его жизненным путем. Он, в общем, необразованный, хотел быть известным писателем и войти в высшее общество, он хотел, чтобы его полюбила умная женщина… Наконец, все есть ― и он заканчивает жизнь самоубийством. И вот этот финал ― это вопрос, который вдруг возник у меня. Как так? Всего добился и ничего не надо? Одной книги нет, и я думаю, что быть не может. У каждого нормального человека есть в сознании много цитат из прозы, поэзии. Такого писателя, по-видимому, нет.
Джек Лондон ― он же чисто американский писатель, про американскую мечту пишет, но у него тот же финал ― самоубийство.
Вы мне немножко напоминаете Надежду Константиновну Крупскую и Владимира Ильича Ленина, не к ночи будут помянуты. Дело в том, что есть рассказ у Джека Лондона «Тысяча дюжин». Это тысяча дюжин яиц, которые он везет на Аляску, претерпевая невероятные трудности. И, наконец, привозит. Торговля идет мгновенно. Но не в деньгах здесь дело. Не в том, что он хотел обогатиться, а в том, что он преодолел. А для Ленина и Надежды Константиновны ― это чистый буржуа, который хочет заработать много денег. Или, из того же рассказа Джека Лондона: он замерзает, разжигает костер. Ломаются спички, руки не гнутся. Последняя спичка ― костер вспыхивает. Представляете восторг, когда замерзшие руки подносишь к костру, и они начинают согреваться. Но что же он наделал? Он развел костер под елкой, и когда теплый воздух поднялся, то с ее лапы упал огромный ком снега. Костер гаснет. Ну и что здесь за «американская мечта»?
Американская мечта ― это как раз преодоление трудностей. Индивидуализм считается чертой национального характера.
Думаю, нет. Мой многолетний опыт общения с американцами показывает, что они проповедуют семейные ценности. Меня поражает, когда в автобусе кто-нибудь вынимает из своего бумажника фотографии и говорит: «А это моя теща, а это мой внук, а это моя внучка». Все это, конечно, очень интересно, но мы все-таки не можем позволить себе дома сказать: «А вот посмотрите мой семейный альбом! Это мой прадедушка, это мой дедушка». Мы ведь так не будем поступать? А они делают это искренне. Американцы очень уважают свою профессию. Один американец мне говорит: «А я занимаюсь изобретением банкоматов» (тогда у нас их еще не было). И подробно рассказал про банкоматы. А вопросы духа они решают, в общем, довольно просто ― это благотворительность. Давай деньги на церковь, на бедных. Дал ― и все, душа спокойна. У нас, интеллигентов, есть чувство ответственности за общественную несправедливость. Я ее не устраивал, не правда ли? Но я чувствую, что в чем-то виноват. Недавно вмешался в борьбу за школу. Так что тут вот такая странность. Про американцев у нас несколько разные точки зрения.
Возможно. А о чем Вы на радио рассказываете?
О чем спросят. Я люблю рассказывать про современную литературу, очень внимательно слежу за ней. У нас в Петербурге есть целый ряд замечательных прозаиков и поэтов, но их молодежь не читает. Молодежь вообще погибла. Мы все боялись, что мир погибнет или от страшных войн, или от природных катаклизмов, или от жутких тоталитарных режимов, вроде Гитлера, Сталина, Пиночета. А оказалось, что мир погиб благодаря компьютеру. Ушел человек в виртуальную реальность и не выходит из нее. Мне звонит моя знакомая из Италии и говорит: «Это немыслимо. Я прихожу в школу, большая перемена ― час. Все сидят по углам и нажимают кнопки. Бегать по двору, игры какие-нибудь ― ни-ни-ни. Это неинтересно». Я в школе Ломоносова говорю: «Давайте проведем экскурсию в Усть-Рудицу. Там Ломоносов смальты варил». ― «А зачем? Включил компьютер, все показали». Виртуальная реальность победила реальность, в которой мы живем. Там интереснее. А интереснее вполне понятно почему. Реальность я изменить не могу, а там ― нажал кнопку, и у меня есть осина, будет дуб. Там я властвую. Мир в моих руках. И там есть все, как говорят мне дети.
Один мой приятель, который полностью в компьютере и уже не выходит на работу, говорит: «В компьютере есть все». Я в ответ: «Ну да? Ой, как интересно! Вот у меня тут десяточек цитат». Ну, одну он нашел. А ведь это, казалось бы, самое простое. Задал ключевые слова, и все. А перед этим я тоже, правда, не к нему обратился. У Набокова есть цитата в романе ― «в воздухе пахло пылью и карбурином». Я говорю: «Найди мне карбурин». Проходит время, он говорит: «Нашел карбурин. Это, ― говорит, ― в романе Набокова "Приглашение на казнь"». Он нашел карбурин у Набокова, откуда я ему его и преподнес, а что это значит этот карбурин он не нашел.
Литература будет ограничиваться шириной экрана в ближайшее время?
Да она уже ограничена. Книжки практически не читаются, потому что для этого надо идти в библиотеку, искать, покупать, а тут ― нажал кнопку и читаешь. Очень удобно, но ведь никто не говорит, как это вредно! Когда я работал на локаторе, нам, извините, молоко давали, к зарплате доплачивали, потому что это вредные частоты. Но скажи современному ребенку: «Полчаса компьютера в день». … А еще общение. Они же начинают ― знакомства, потом встречи. Такое впечатление, что друзья, с которыми можно поговорить, им не нужны, а по компьютеру ― интересно. Идет обмен мнениями, свой язык выработался, компьютерный. Чего там только нет! Да, «печально я гляжу на наше поколенье»… Никто не мог предвидеть, что компьютер, виртуальная реальность победит реальность, в которой мы живем. Это навалилось, и называлось это раньше Антихристом. Антихрист придет и скажет: «Ты мне душу, а я тебе ― знания. Ты будешь знать все». И вот за это знание Фауст может продать душу. А вот тебе, пожалуйста, получи все! Хочешь ― о политике, хочешь ― о спорте, литературе, театре, ― все тебе на экране высветилось, полное знание, ничего другого не надо. И вот это очень печально. Ну, ничего не поделаешь. Может, какое-нибудь противоядие изобретется, но не очень я верю. Разумом я понимаю, что мы не идем, а катимся в пропасть. А вера мне говорит, что все будет хорошо.
Может быть, Вы нам еще дадите какой-нибудь эпиграф к своему курсу?
Эпиграф?
К курсу Ваших лекций.
Это ужасные лекции! Боже мой, когда я их прочел, думал, что все это бросили. Это ужас, ужас совершенный. Эпиграф? Я в курсе привожу стихи, которые вызывали невероятное количество пародий. Одно из них ― «Хочу того, чего не бывает на свете». Хохот стоял по всей России читающей. Никому в голову не приходило, что это, извините, Платон. Вот он, мир идей, которых здесь ― только отблеск. «О, закрой свои бледные ноги» ― здесь, конечно, можно и посмеяться над Брюсовым, но «Хочу того, чего не бывает на свете» вполне всерьез сказано. Но я не взял бы это эпиграфом.
Но это подходит к тому, о чем Вы говорили.
Давайте. Хотите ― пусть будет так! Как скажете. Кто бы спорил, а я ― никогда.
Спасибо большое.
Вам спасибо.
Да.
Можно с этого начать?
Давайте, но начну я с того затруднительного положения, в которое попал, когда учился на четвертом курсе университета. Надо было сдавать символизм. Я, как человек добросовестный, прочел статьи Вячеслава Иванова, Андрея Белого и сказал себе откровенно: «Я ни одного слова в этих статьях не понимаю». Смысла не вижу никакого. Это было такое сильное ощущение ― я попал в какие-то тексты… И вот однажды я встречаю у Андрея Белого высказывание о том, что в основе этого лежит мистический опыт. То есть опыт чего-то странного, необычного.
Измененное состояние сознания...
Да, да… И вот тут я задаю себе, наверное, первый раз в жизни вопрос: «А со мной что-нибудь подобное бывало? Что-нибудь странное?» И вспоминаю: я ― мальчик, мне 12 лет, вечером иду по кочковатому полю. Солнце уже садится, и вдруг из-под ног вылетает огромная птица. Я пугаюсь, сажусь на кочку и вдруг вижу себя, мальчика, испугавшегося и сидящего на кочке. Как возникло это странное раздвоение сознания? Вот ― я. А вот ― я, наблюдающий самого себя, мальчика, который испугался. Задав себе этот непростой вопрос, я пошел дальше. Нет ли у меня чего-нибудь такого? И вспоминаю, что да. Какое-то странное видение у меня есть. Оно связано с такой картиной: я где-то высоко-высоко, а внизу ― огромное поле высокой травы. И эта трава как-то ритмически движется… Картина ни на что не похожая. Одновременно с этим я вижу скамейку, очень странную, которая наклоняется вот так к стенке, она выщербленная. При чем здесь эта скамейка? Спрашиваю у мамы: «Ты не помнишь, случайно, где-нибудь мы жили, где была такая странная скамейка… Она, ― говорю, ― под углом была, вся выщербленная?» ― «А как же! Неужели, ― говорит, ― ты не помнишь? Я это на всю жизнь запомнила. Ты на эту скамейку лег и умер». Умер я от переедания ― организм, который давно не ел, не справился. Это я умирал, оказывается. Мама говорит: «Я очень хорошо это помню потому, что увидела твою руку, которая висела не так, как обычно у спящего ребенка. Я потрогала, ― она холодная». Когда я это вспомнил, то начал смотреть на литературу совсем иначе.
«Лице свое скрывает день; / Поля покрыла мрачна ночь; <…> Открылась бездна звезд полна; / Звездáм числа нет, бездне дна». Это Ломоносов… Бесконечность представить себе нельзя. Можно все, что угодно представить, кроме бесконечности. Но с попытки представить себе ее начинается движение человеческого разума. И не более, и не менее. Все писатели хотят сказать то, что передать невероятно трудно. «Есть речи ― значенье / Темно иль ничтожно, / Но им без волненья / Внимать невозможно». Что это за речи? Читаю статью Вячеслава Иванова ― темно и ничтожно, но им без волненья внимать невозможно. Оказывается, вот то, о чем сказал Лермонтов. Это слово, которое родилось в огне, то самое слово. Ну а Тютчев? Он весь на этом построен. Правда, он ставит проблему еще жестче: «Как сердцу высказать себя?» Конечно, невозможно сердцу высказать себя. Вот это самое главное, чему нет названия. Если я не могу высказать, то другому как понять? Да никак. «Молчи, скрывайся и таи. / И чувства, и мечты свои!» Невозможна, как бы теперь сказали, коммуникация по самым главным вопросам. А вместе с тем, если об этом не говорить, тогда вообще, о чем говорить? Можем говорить, конечно, о социально-политическом неблагообразии общества, так оно всегда было, есть и будет. И говорить об этом надо, от этого никуда не денешься. Но самое главное в другом... Толстой пишет в Дневнике (1895 год): «Я иногда чувствую, что через меня говорит Бог, только это бывает очень редко потому, что душа грязная». Сразу вспоминаются слова Баздеева, обращенные к Пьеру: «Что ты пытаешься вычитать смысл жизни из книжек? Да ты очисти душу, потому что в грязный сосуд чистое вино наливать не надо». Да? Достоевский с его потрясающим знанием гармонии. Правда, это он чувствует перед эпилепсией. И тот же Толстой, который говорит: «Умереть ― значит, проснуться». И никуда не денешься. А если прочтем у Блока: «Здесь ― страшная печать отверженности женской / За прелесть дивную ― постичь ее нет сил. / Там ― дикий сплав миров, где часть души вселенской / Рыдает, исходя гармонией светил». Это что такое? И вместе с тем, он напишет про поэта: «Простим угрюмство ― разве это / Сокрытый двигатель его? / Он весь ― дитя добра и света, / Он весь ― свободы торжество!» О какой свободе идет речь? О метафизической. Метафизическая свобода пронизывает все творчество Блока. «Пушкин! Тайную свободу / Пели мы вослед тебе. / Дай нам руку в непогоду, / Помоги в немой борьбе...» Это написано им в 1921 году, когда уже ― все, никакой свободы нет, ощущение метафизической свободы. И тогда становится совсем просто и понятно, о чем пишет Владимир Соловьев в строках: «Смерть и Время царят на Земле! / Ты владыками их не зови!» Как же не звать? Время царит, смерть царит. «Все, кружась, исчезает во мгле, / Неподвижно лишь солнце любви». Это что за неподвижность? Вспомним Ньютона: «Всякое движение относительно». Я двигаю рукой. Это какое движение? ― Относительно стола. А стол двигается? ― Двигается. Как? ― С Землей вокруг себя, затем описывает движение относительно… А что неподвижно? Сознание. Неподвижно сознание. Сознание, что это такое? Это ― знание с кем-то. Это ― знание с Богом. С какой точки зрения я смотрю на свое собственное сознание? Вот с этой, неподвижной. Ну, про любовь понятно, это Данте. Что движет мирами? ― Любовь. И тогда литература открывается. Оказывается, вот о чем русская литература, символисты. Символисты, учатся у других. Они учатся понимать Толстого, Достоевского, Шекспира, Данте. Когда Блок читает Платона, вы думаете, что на него Платон повлиял? Да не влиял на него Платон, он узнает себя в учении Платона. Пока у меня в сознании не родилась мысль, я ее у другого не позаимствую. А вот когда она появилась у меня, тогда мне и другой становится ясен. Поэтому влияния (то, что мы называем влиянием) не бывает. Мы говорим: «Пушкин повлиял, Лермонтов и т. д. и т. д.». Такого не бывает. А вот талант влияет. Не цитирование, не высказывание тех же мыслей и ощущений…
То есть фактически каждый пытается объяснить то, что необъяснимо для него?
Да, так. Фактически каждый пытается высказать себя, что невозможно (по Тютчеву) и пытается высказать другому, как понять себя. И пытается наладить этот странный мост. Вот то, о чем Лермонтов пишет: «Я к вам пишу случайно; право / Не знаю как и для чего. / Я потерял уж это право. / И что скажу вам? — ничего! / Что помню вас? — но, Боже правый, / Вы это знаете давно; / И вам, конечно, все равно. / И знать вам также нету нужды, / Где я? что я? в какой глуши? / Душою мы друг другу чужды, / Да вряд ли есть родство души». Вот она, трагедия. Мы бесконечно одиноки. Мы ― эти самые монады по Лейбницу, которые никак не соприкасаются. И попытки соприкосновения, понимания возникают только на этих глубинах. Поэтому, когда Блок и Андрей Белый встретятся, они друг другу не понравятся. Потому что они вдруг там увидят реального поэта. Потом они, правда, подружатся, это несомненно. Вот такова проблема, и когда мы преподаем русскую литературу и этой проблемы не пытаемся затрагивать, мы преподаем что-то другое. Вы верно задаете вопрос. Это свойственно всем реалистам. Вопросы веры беспрерывно мучили Горького. «Отречемся от старого мира! Отряхнем его прах с наших ног!» Герои купцу цитируют, а он говорит: «Это что-то уже давно было». Он Библию хорошо знает ― «отряхнем прах». Нам тоже казалось, что мы что-то новое прочли.
А Вы можете назвать какую-нибудь книгу из русской литературы, которую обязательно должен прочесть любой человек?
Нет, конечно, не могу. Я могу вспомнить, какие книги на меня оказывали особенное влияние. Самая сильная была в девятом классе «Мартин Иден», потому что все молодые люди нацелены на будущее, на карьеру. И это нормально. Просто одни хотят быть богатыми, а другие хотят открыть электрон. Так вот, Мартин Иден добился всего. С каким захватывающим волнением я следил за его жизненным путем. Он, в общем, необразованный, хотел быть известным писателем и войти в высшее общество, он хотел, чтобы его полюбила умная женщина… Наконец, все есть ― и он заканчивает жизнь самоубийством. И вот этот финал ― это вопрос, который вдруг возник у меня. Как так? Всего добился и ничего не надо? Одной книги нет, и я думаю, что быть не может. У каждого нормального человека есть в сознании много цитат из прозы, поэзии. Такого писателя, по-видимому, нет.
Джек Лондон ― он же чисто американский писатель, про американскую мечту пишет, но у него тот же финал ― самоубийство.
Вы мне немножко напоминаете Надежду Константиновну Крупскую и Владимира Ильича Ленина, не к ночи будут помянуты. Дело в том, что есть рассказ у Джека Лондона «Тысяча дюжин». Это тысяча дюжин яиц, которые он везет на Аляску, претерпевая невероятные трудности. И, наконец, привозит. Торговля идет мгновенно. Но не в деньгах здесь дело. Не в том, что он хотел обогатиться, а в том, что он преодолел. А для Ленина и Надежды Константиновны ― это чистый буржуа, который хочет заработать много денег. Или, из того же рассказа Джека Лондона: он замерзает, разжигает костер. Ломаются спички, руки не гнутся. Последняя спичка ― костер вспыхивает. Представляете восторг, когда замерзшие руки подносишь к костру, и они начинают согреваться. Но что же он наделал? Он развел костер под елкой, и когда теплый воздух поднялся, то с ее лапы упал огромный ком снега. Костер гаснет. Ну и что здесь за «американская мечта»?
Американская мечта ― это как раз преодоление трудностей. Индивидуализм считается чертой национального характера.
Думаю, нет. Мой многолетний опыт общения с американцами показывает, что они проповедуют семейные ценности. Меня поражает, когда в автобусе кто-нибудь вынимает из своего бумажника фотографии и говорит: «А это моя теща, а это мой внук, а это моя внучка». Все это, конечно, очень интересно, но мы все-таки не можем позволить себе дома сказать: «А вот посмотрите мой семейный альбом! Это мой прадедушка, это мой дедушка». Мы ведь так не будем поступать? А они делают это искренне. Американцы очень уважают свою профессию. Один американец мне говорит: «А я занимаюсь изобретением банкоматов» (тогда у нас их еще не было). И подробно рассказал про банкоматы. А вопросы духа они решают, в общем, довольно просто ― это благотворительность. Давай деньги на церковь, на бедных. Дал ― и все, душа спокойна. У нас, интеллигентов, есть чувство ответственности за общественную несправедливость. Я ее не устраивал, не правда ли? Но я чувствую, что в чем-то виноват. Недавно вмешался в борьбу за школу. Так что тут вот такая странность. Про американцев у нас несколько разные точки зрения.
Возможно. А о чем Вы на радио рассказываете?
О чем спросят. Я люблю рассказывать про современную литературу, очень внимательно слежу за ней. У нас в Петербурге есть целый ряд замечательных прозаиков и поэтов, но их молодежь не читает. Молодежь вообще погибла. Мы все боялись, что мир погибнет или от страшных войн, или от природных катаклизмов, или от жутких тоталитарных режимов, вроде Гитлера, Сталина, Пиночета. А оказалось, что мир погиб благодаря компьютеру. Ушел человек в виртуальную реальность и не выходит из нее. Мне звонит моя знакомая из Италии и говорит: «Это немыслимо. Я прихожу в школу, большая перемена ― час. Все сидят по углам и нажимают кнопки. Бегать по двору, игры какие-нибудь ― ни-ни-ни. Это неинтересно». Я в школе Ломоносова говорю: «Давайте проведем экскурсию в Усть-Рудицу. Там Ломоносов смальты варил». ― «А зачем? Включил компьютер, все показали». Виртуальная реальность победила реальность, в которой мы живем. Там интереснее. А интереснее вполне понятно почему. Реальность я изменить не могу, а там ― нажал кнопку, и у меня есть осина, будет дуб. Там я властвую. Мир в моих руках. И там есть все, как говорят мне дети.
Один мой приятель, который полностью в компьютере и уже не выходит на работу, говорит: «В компьютере есть все». Я в ответ: «Ну да? Ой, как интересно! Вот у меня тут десяточек цитат». Ну, одну он нашел. А ведь это, казалось бы, самое простое. Задал ключевые слова, и все. А перед этим я тоже, правда, не к нему обратился. У Набокова есть цитата в романе ― «в воздухе пахло пылью и карбурином». Я говорю: «Найди мне карбурин». Проходит время, он говорит: «Нашел карбурин. Это, ― говорит, ― в романе Набокова "Приглашение на казнь"». Он нашел карбурин у Набокова, откуда я ему его и преподнес, а что это значит этот карбурин он не нашел.
Литература будет ограничиваться шириной экрана в ближайшее время?
Да она уже ограничена. Книжки практически не читаются, потому что для этого надо идти в библиотеку, искать, покупать, а тут ― нажал кнопку и читаешь. Очень удобно, но ведь никто не говорит, как это вредно! Когда я работал на локаторе, нам, извините, молоко давали, к зарплате доплачивали, потому что это вредные частоты. Но скажи современному ребенку: «Полчаса компьютера в день». … А еще общение. Они же начинают ― знакомства, потом встречи. Такое впечатление, что друзья, с которыми можно поговорить, им не нужны, а по компьютеру ― интересно. Идет обмен мнениями, свой язык выработался, компьютерный. Чего там только нет! Да, «печально я гляжу на наше поколенье»… Никто не мог предвидеть, что компьютер, виртуальная реальность победит реальность, в которой мы живем. Это навалилось, и называлось это раньше Антихристом. Антихрист придет и скажет: «Ты мне душу, а я тебе ― знания. Ты будешь знать все». И вот за это знание Фауст может продать душу. А вот тебе, пожалуйста, получи все! Хочешь ― о политике, хочешь ― о спорте, литературе, театре, ― все тебе на экране высветилось, полное знание, ничего другого не надо. И вот это очень печально. Ну, ничего не поделаешь. Может, какое-нибудь противоядие изобретется, но не очень я верю. Разумом я понимаю, что мы не идем, а катимся в пропасть. А вера мне говорит, что все будет хорошо.
Может быть, Вы нам еще дадите какой-нибудь эпиграф к своему курсу?
Эпиграф?
К курсу Ваших лекций.
Это ужасные лекции! Боже мой, когда я их прочел, думал, что все это бросили. Это ужас, ужас совершенный. Эпиграф? Я в курсе привожу стихи, которые вызывали невероятное количество пародий. Одно из них ― «Хочу того, чего не бывает на свете». Хохот стоял по всей России читающей. Никому в голову не приходило, что это, извините, Платон. Вот он, мир идей, которых здесь ― только отблеск. «О, закрой свои бледные ноги» ― здесь, конечно, можно и посмеяться над Брюсовым, но «Хочу того, чего не бывает на свете» вполне всерьез сказано. Но я не взял бы это эпиграфом.
Но это подходит к тому, о чем Вы говорили.
Давайте. Хотите ― пусть будет так! Как скажете. Кто бы спорил, а я ― никогда.
Спасибо большое.
Вам спасибо.
Для еженедельника "Аргументы и Факты" № 45. Аргументы и факты - Петербург 10/11/2010 - Борис Аверин: "Мы переживаем культурный взлёт"
- "АиФ-Петербург": Борис Валентинович, а что такое «Петербургский текст»?
- Б. АВЕРИН: Это не литература, написанная в Петербурге, это особое пространство, где сошлись архитектура, скульптура, литература, мода, реки и каналы... Всё это влияет на горожанина.
- "АиФ-Петербург": Вы хотите сказать, что петербуржцы - люди очень культурные?
- Б. А.: Культурная жизнь города странная, она сосредоточена в музеях, театрах, но всё это существует по отдельности. А теневая сторона современной культуры поведения - чудовищна. Вот пример. Еду в такси, водитель-женщина разоткровенничалась: «Вчера мы пошли в лес, жарили шашлык, занялись сексом». То, что раньше называлось любовью, стало мероприятием на уровне шашлыка!
- "АиФ-Петербург": В чём же причины «чудовищного» падения?
- Б. А.: Отсутствие идеалов, агрессивность. Тоталитарные режимы вбивали идеологию марксизма. Теперь наше сознание обработано гораздо сильнее - нас отучают думать, да и чувствовать. За 20-30 секунд СМИ тебе дают информацию. Сосредоточиться некогда.
А для молодёжи виртуальный мир победил реальный: за компьютером интереснее, чем в жизни. Мы даже не представляем, насколько это и физически калечит. Недавно я лежал в больнице, в палате - ещё пятеро молодых людей, у всех - болезнь позвоночника. Как говорит врач, оттого, что все они много часов проводили «в позе банана на диване», с ноутбуком на животе.
- "АиФ-Петербург": Вы преподаёте в Университете. На молодёжь есть надежда?
- Б. А.: Я сорок лет преподаю, за это время прошло как минимум три поколения. Современные студенты-интеллектуалы превосходят нас! Я только в 40 лет получил возможность прочесть Набокова, Хайдеггера - в 50, а они всё это знают. Знание двух-трёх языков - норма.
Но! Встречаю знакомого учёного-биолога, он рассказывает, что зарплата - семь с половиной тысяч. Ушёл бы, но идёт важный эксперимент, если удастся - это уровень Нобелевской премии. Я его угостил в кафе. Встречаю через год, он заявляет: «Теперь я могу тебя угостить. Для одной фирмы два раза в месяц делаю анализ нефти, платят 30 тысяч». Благодаря этому продолжает эксперимент.
- "АиФ-Петербург": В советское время был штамп: «Мы - самая читающая нация». Сейчас другой: «Мы читать перестали». Согласны?
- Б. А.: На самом деле литературу покупают самую разную! Но многие люди, если книги нет в Интернете, и не прочтут. Заявляю: хороших новых книг в Интернете нет.
- "АиФ-Петербург": Как же книге пробиться к широкому читателю?
- О хорошей книге люди друг другу рассказывают! Эта реклама действует эффективнее, чем любая другая. Вот порекомендовали мне «Жизнь - сапожок непарный» Тамары Петкевич, я - друзьям, студентам, и пошла волна. По моему мнению, если брать литературу, музыку - Россия переживает культурный взлёт! Но он существует помимо государства. Оно не вмешивается.
- "АиФ-Петербург": У нас многие деятели культуры чувствуют себя потерянными, невостребованными.
- Б. А.: Уж очень мы талантливый народ, с избытком. Когда я вижу сотни рукописей, приходящих в журналы, думаю - когда же это прочтут? Начинающий «творец», действительно, несколько лет остаётся невостребованным, и, случается, пропадает. Но надо терпеть и знать, что главная задача - создать продукт. А потом выбрать для себя стезю: или доказывай, что гений, ходи по издательствам, или прилепись к группе единомышленников, или сиди и надейся, что когда-нибудь тебя оценят. Но и сейчас в издательствах сидят умные редакторы, и ждут, когда придут Чехов и Платонов…
- Б. АВЕРИН: Это не литература, написанная в Петербурге, это особое пространство, где сошлись архитектура, скульптура, литература, мода, реки и каналы... Всё это влияет на горожанина.
- "АиФ-Петербург": Вы хотите сказать, что петербуржцы - люди очень культурные?
- Б. А.: Культурная жизнь города странная, она сосредоточена в музеях, театрах, но всё это существует по отдельности. А теневая сторона современной культуры поведения - чудовищна. Вот пример. Еду в такси, водитель-женщина разоткровенничалась: «Вчера мы пошли в лес, жарили шашлык, занялись сексом». То, что раньше называлось любовью, стало мероприятием на уровне шашлыка!
- "АиФ-Петербург": В чём же причины «чудовищного» падения?
- Б. А.: Отсутствие идеалов, агрессивность. Тоталитарные режимы вбивали идеологию марксизма. Теперь наше сознание обработано гораздо сильнее - нас отучают думать, да и чувствовать. За 20-30 секунд СМИ тебе дают информацию. Сосредоточиться некогда.
А для молодёжи виртуальный мир победил реальный: за компьютером интереснее, чем в жизни. Мы даже не представляем, насколько это и физически калечит. Недавно я лежал в больнице, в палате - ещё пятеро молодых людей, у всех - болезнь позвоночника. Как говорит врач, оттого, что все они много часов проводили «в позе банана на диване», с ноутбуком на животе.
- "АиФ-Петербург": Вы преподаёте в Университете. На молодёжь есть надежда?
- Б. А.: Я сорок лет преподаю, за это время прошло как минимум три поколения. Современные студенты-интеллектуалы превосходят нас! Я только в 40 лет получил возможность прочесть Набокова, Хайдеггера - в 50, а они всё это знают. Знание двух-трёх языков - норма.
Но! Встречаю знакомого учёного-биолога, он рассказывает, что зарплата - семь с половиной тысяч. Ушёл бы, но идёт важный эксперимент, если удастся - это уровень Нобелевской премии. Я его угостил в кафе. Встречаю через год, он заявляет: «Теперь я могу тебя угостить. Для одной фирмы два раза в месяц делаю анализ нефти, платят 30 тысяч». Благодаря этому продолжает эксперимент.
- "АиФ-Петербург": В советское время был штамп: «Мы - самая читающая нация». Сейчас другой: «Мы читать перестали». Согласны?
- Б. А.: На самом деле литературу покупают самую разную! Но многие люди, если книги нет в Интернете, и не прочтут. Заявляю: хороших новых книг в Интернете нет.
- "АиФ-Петербург": Как же книге пробиться к широкому читателю?
- О хорошей книге люди друг другу рассказывают! Эта реклама действует эффективнее, чем любая другая. Вот порекомендовали мне «Жизнь - сапожок непарный» Тамары Петкевич, я - друзьям, студентам, и пошла волна. По моему мнению, если брать литературу, музыку - Россия переживает культурный взлёт! Но он существует помимо государства. Оно не вмешивается.
- "АиФ-Петербург": У нас многие деятели культуры чувствуют себя потерянными, невостребованными.
- Б. А.: Уж очень мы талантливый народ, с избытком. Когда я вижу сотни рукописей, приходящих в журналы, думаю - когда же это прочтут? Начинающий «творец», действительно, несколько лет остаётся невостребованным, и, случается, пропадает. Но надо терпеть и знать, что главная задача - создать продукт. А потом выбрать для себя стезю: или доказывай, что гений, ходи по издательствам, или прилепись к группе единомышленников, или сиди и надейся, что когда-нибудь тебя оценят. Но и сейчас в издательствах сидят умные редакторы, и ждут, когда придут Чехов и Платонов…
Интервью порталу MR-7 - Борис Аверин: "Рассказывая о себе, неминуемо становишься художником"
О законах памяти и писательской воле, о современной русской литературе и о «своих» авторах беседуем с литературоведом, доктором филологических наук, профессором кафедры истории русской литературы СПбГУ Борисом Авериным.
Книгоедство
Сколько новых книг читаю в неделю? Это вы очень точный вопрос задали. Есть в социологии такое понятие «иерархия ценностей». Я, например, очень люблю музыку, люблю театр, спорт, друзей, родственников. Но если у меня есть выбор: пойти в театр, пойти в филармонию, встретиться с друзьями, навестить родственницу или почитать – я сяду читать книгу. Так было с раннего детства и по сей день. Есть, конечно, еще одно важное для меня дело — собирать грибы. Но чтение идет беспрерывно. Всех филологов объединяет любовь к книжкам, любовь к слову. Есть авторы, которых я перечитываю по 10-15 раз. Прежде всего это Пушкин, Толстой, Чехов, Бунин и Набоков. Их я могу цитировать наизусть, а остальных просто читаю. Очень важна для меня современная русская литература. Как я в ней ориентируюсь? Просто много читаю, а то что интересно, перечитываю. Кроме того, я знаком со многими авторами, хожу на их выступления.
О слове
Слову сейчас пришлось потесниться, ему живется не слишком хорошо. Еду недавно в электричке. Мне сообщают, что наш поезд следует до станции «Ораниенбаум» «со всеми остановками, кроме "Электродепо", следующая остановка — "Электродепо"». Во всем вагоне никто не улыбнулся. Я пришел домой и рассказываю. Взрослые члены семьи улыбнулись, дети — нет. Они не слышат текста — так же, как тот, кто читал это объявление. Люди привыкли к компьютеру, привыкли «схватывать» текст по диагонали, вылавливать только самый общий смысл.
Как выбрать книгу
Однажды я сидел в аэропорту, рейс откладывался. Я уже все прочел, что было с собой, смотреть в стенку больше не мог. Перепрыгнул через все запретные барьеры, пришел к книжному киоску. А там сплошь или детективы, или дамские романы. Читаю две страницы, и понимаю, что не могу. И вдруг среди всего этого обнаруживаю «Путь Мури» Ильи Бояшова. Я его тогда еще не читал. Это же был просто праздник. Но во всем киоске – только одна книжка, которую можно читать.
Когда я хочу узнать что-то о новых композиторах, я задам вопрос специалисту. Точно так же можно узнать и о книгах – спросите у знакомого филолога, писателя, редактора: «А что почитать»? И искать книги надо только по авторам. Другого пути нет. Чтобы кто-то порекомендовал. Только что кончил читать новое издание Софии Синицкой. Это очень интересный автор. Я ее с первого произведения и по сей день читаю с удовольствием. Поразительная манера. Из авторов среднего поколения — Сергей Носов, Павел Крусанов, Илья Бояшов. Носов связан с традициями Гоголя, Достоевского, Андрея Белого. Он безнадежно начитан, все на свете читал. Бояшов – широкий специалист и романист, он прекрасно осведомлен в таких разных областях как история и музыка. Александр Етоев — книгоед, как и я, он автор не только рассказов и повестей, у него есть, например, сочинение, которое так и называется: «Книгоедство. Выбранные места из книжной истории всех времен, планет и народов». Есть и старшее поколение. Даниил Александрович Гранин за последние 15 лет написал поразительную прозу. Представьте себе: творческий взлет, начатый в 85 и продолжающийся.
Насколько доверять литературным премиям? Однозначного ответа нет. В «Национальном бестселлере» хороший список номинаторов. В него входят Секацкий, Крусанов, Етоев, Носов – люди, которым можно доверять. Они предлагают, а потом решает жюри, тут уж не знаю, как оно отбирается. Как организована «Большая книга» не знаю. Я был номинатором в «Русском Букере», но там, увы, финал был предусмотрен. В таких случаях решения предопределяются по-разному. Помню, как-то премию получил писатель, который в тюрьме сидел — это была не совсем литература, но раз человек сидит, было решено, что надо дать.
О «сделанной» литературе
Есть авторы, которые пишут не потому, что не могут не писать, а в расчете на читателя. Писатели, которые хотят, чтобы их книги покупались, обречены на безнадежную тоску. Есть автор, который решил писать про Толстого — детектив про Толстого, эротический роман про Толстого и т. д. Его реалистический роман я прочел с удовольствием, а все остальное только пролистал. Потому что он всего лишь играет, разыгрывает различные пьесы на одну и туже тему — Лев Николаевич Толстой.
Но, конечно, и популярная литература имеет своего читателя. У Вересаева есть такой рассказ. Один рабочий научился грамоте, чтобы читать все выпуски про Ната Пинкертона. А потом заболел на полгода, после большого перерыва взялся за Пинкертона и понял, что ему уже скучно. И стал читать другую литературу. Есть надежда, что человек, который начал с Ната Пинкертона, перейдет на что-то более глубокое.
Я бы не стал ругать Акунина. Это все-таки очень высокий уровень знаний. Историю российской полиции он знает прекрасно. Замечательные подробности, больше нигде не вычитаешь. Или «Чапаев и пустота» у Пелевина — прекрасная книга. Но «Шлем ужаса» я уже не могу читать, хотя молодежи нравится. Это что-то из компьютерного мира.
О другой реальности
Кому-то нужна церковь, а кому-то нет. Так и литература. Она меня как-то постепенно переселяет из той жизни, которой я живу, в какую-то другую. Я попадаю в другую среду, в другие обстоятельства, другое сознание, совсем другое. Например, Каренин. Это не ваше сознание, нет, но вы его хорошо чувствуете. Вот он догадывается, что жена ему изменяет, он зовет ее и говорит, что семья — это фундамент государства, что в основе семьи лежит религия, что надо чтить институт брака. Он говорит банальности и скучно, ужасно он говорит, но Анну это трогает, и она шепчет про себя «Поздно, поздно, поздно». И вот это «поздно, поздно, поздно» действует на любого читателя, мужчину, женщину. Просто не каждому приходит в голову открыть «Анну Каренину». Но это удивительный эффект: я вдруг оказываюсь «своим» в какой-то чужой среде, которая открывается мне и становится понятной.
Глубины памяти
Автобиографические произведения — это моя основная тема, все мои статьи и книжки так или иначе возвращаются к ней. А началось все с повести «Котик Летаев». Я читал ее и думал: этого не может быть. Андрей Белый вспоминает, как он родился и как он жил до рождения. Я обратился к своему учителю Дмитрию Евгеньевичу Максимову, который до меня читал в университете курс по литературе Серебряного века. Он встречался с Андреем Белым (видите, как все близко) — спрашиваю у него, как все это понимать. А он отвечает: ничего не поделаешь, это правда, возьмите другие свидетельства. И я стал задавать вопросы всем подряд: какое ваше первое воспоминание? И оказалось, что люди очень многое помнят из своего младенчества. Оказалось, что воспоминания, память — это страшно интересно. Просто мы не даем себе труда спуститься вглубь нашей памяти.
Я однажды лежал в больнице. В палату приходит женщина, у нее удивительные какие-то глаза. Вечер, шторы открыты, а за окном большая круглая луна. Она говорит: «Можно я закрою?». Разговорились, и я попросил ее пересказать мне свое самое необычное воспоминание. Она рассказала, как шла по берегу залива в Репино и вдруг обнаружила, что идет по краю пустыни, на плечах огромный камень, а вокруг страшная жара. Прошло время, она оказалась на берегу залива и почувствовала, что у нее болит сердце. Обратилась к врачу, ей сказали, что у нее был приступ стенокардии… Такая история.
Воля писателя
Конечно, в автобиографии писатель порой выдает желаемое за действительное, встраивает себя в некую философскую систему. Человек, когда рассказывает о себе, неминуемо становится художником. Неминуемо возникают художественные детали. Эти детали потом хорошо пересказываются, записываются и входят в мемуары. А есть концептуальные мемуары, это где автор доказывает какую-нибудь идею.
от же Короленко, когда пишет «Историю моего современника», уверяет, что не будет говорить о себе, а только о тех, кто исполнил самый главный завет: «Иди к униженным, иди к обиженным, там нужен ты». Вот о чем он хотел написать. Но не получилось. Он решил, что сначала должен рассказать о себе, чтобы читателям была понятна призма, через которую все преломляется. И рассказал о детстве, о школьных годах, о первом приезде в Петербург. Знаете, что его поразило в Петербурге? Запах моря. Он сам с Украины. И это очень правдивые воспоминания. А под конец они, к сожалению, уже становятся традиционными мемуарами, описаниями встреч с разными людьми. Это интересно, это любопытно. Но именно первый том оказался подлинным художественным произведением. Потому что воспоминания о детстве неминуемо художественные. Тут ничего не поделаешь.
Бывают воспоминания абсолютно правдивые, но в них отсутствует автор. Например, в воспоминаниях Горького нет самого Горького. Вот что интересно. В воспоминаниях Толстого я отчетливо вижу автора: есть мальчик, и есть писатель, который описывает свое детство. А у Горького присутствует только мальчик, а взрослого Горького нет. Он занят фигурами дедушки, бабушки – и пишет о них всю правду. Читаешь с огромным удовольствием, но чувствуешь, что чего-то в этой правде не хватает. А бывают совсем другие мемуары – Набокова, Бунина, Андрея Белого, в них ты все время чувствуешь автора.
Я рассматриваю мемуары как лучшее произведение писателя, где он герой, он в центре повествования, сам становится предметом исследования. «Жизнь Арсеньева» Бунина — там все правда. Но как эта правда написана! Какой пейзаж, какие взаимоотношения, какая любовь. Но он изменил один важный сюжет. У него героиня умирает, а в действительности она не умерла. Но это не важно. Бунину нужно, чтобы она умерла. И он пишет: «Сегодня видел ее во сне». В романе — «Недавно я видел ее во сне – единственный раз за всю свою долгую жизнь без нее. Ей было столько же лет, как тогда, в пору нашей общей жизни и общей молодости, но в лице ее уже была прелесть увядшей красоты... Я видел ее смутно, но с такой силой любви, радости, с такой телесной и душевной близостью, которой не испытывал ни к кому никогда». В чем здесь дело? Любовь в этот момент, много лет спустя после расставания, осуществилась. А любовь — это вещь неосуществимая. Как говорит Чехов, любовь — это то великое, что было в прошлом или что-то великое, что будет в будущем, в настоящем она не удовлетворяет.
Бунин, как автор, произвел опыт над самим собой. Он вспомнил свою жизнь, и в результате этого опыта произошло самое яркое событие в его жизни: написав роман, он впервые понял, что такое любовь, скрепляющая телесное и духовное начало. Мемуары — это всегда взгляд на свою жизнь как на произведение и возможность пережить ее заново. Психологи говорят, что 95 процентов нашей жизни мы забываем. И если бы вели дневник, а потом прочитали через 20 лет, все равно не узнали бы, о чем там на самом деле шла речь. Я никогда не вел дневников, но однажды нашел тетрадочку – когда был в Крыму, почему-то пять эпизодов записал. Читаю и ничего вспомнить не могу. Кроме одной фразы — ее я вспомнил. Наша спутница училась плавать, и я написал: «Нырнула, такое впечатление, что в море упала дверь». И все. Все остальное забыто. Хотя эпизод был ярким: отпуск, Крым...
А вот у Чехова нет ни одного автобиографического произведения. Он очень закрытый человек. Практически никогда не бывал откровенным, даже в письмах. Он сам себя препарировать не стал. Автобиографических деталей в его произведениях, конечно, много. Например, обращение Гаева к многоуважаемому шкафу. Это реальные слова из детства Чехова — в шкафу были сладости, они закрывались на ключ, и дети разговаривали со шкафом: «Многоуважаемый…»
Свежий взгляд
Нет, мои лекции — это не популяризация. Мой учитель, Григорий Абрамович Бялый, прекрасный лектор, советовал перед тем, как читать лекцию, перечитывать художественное произведение. Вот я позавчера перечитал «Ионыча». Это было открытие. Потому что тот идиотизм, которым забивали меня в школе (это, мол, социальное произведение, Чехов будто бы хочет сказать: если лучшие люди таковы, то каковы же все остальные…), — к действительности отношения не имеет. Это замечательное произведение о любви. Это невероятное описание кладбища, такого описания больше нет в мировой литературе. Я перечитал два дня назад свежим взглядом и теперь могу читать лекцию.
Иногда я перечитываю все произведение, иногда только часть. Но до тех пор, пока не появится у меня новая мысль, я не смогу прочитать лекцию, я не умею дважды пересказывать совершенно одно и тоже. Иногда такая мысль приходит прямо во время лекции, и я отвлекаюсь от намеченного. Для меня особой разницы нет, читаю я для специалистов или на широкую, даже совсем не подготовленную аудиторию.
Лекция — это очень живой процесс взаимоотношений с аудиторией. Если она засыпает, надо рассказать анекдот. Я рассказываю только исторические анекдоты. А так как я живу бесконечно долго, то и помню бесконечно много. Недавно вспомнил: батюшки, как много президентов я пережил. Первого и называть не буду, потом началось: Маленков, Булганин, Хрущев… Рассказываю аудитории, а оказывается, что они о таких и не слышали. А я вдруг вспоминаю частушку, дурацкую: «Вот пришел Маленков, Даст он хлеба и блинков». Тогда был ужасный голод в стране, и вдруг, когда пришел Маленков появилась надежда, что в магазинах появится хлеб.
Лекторий в Охта Lab мне понравился. Очень хороший зал, очень хорошая аудитория. Лица симпатичные, слушают. Улыбаются, задумываются. Идет нормальная, живая беседа. Потом спросил у кого-то из руководителей, как они собрали такую хорошую аудиторию, оказалось — лекция бесплатная.
От современности к классике
Это самая распространенная точка зрения: вот я еще не прочел «Анну Каренину», а буду читать какие-то «Фигурные скобки» или «Зулейха открывает глаза», зачем тратить время на современных авторов, если нет уверенности — шедевр это или что-то второсортное. Ответ простой. Через современную литературу начинаешь лучше понимать литературу 18-19 столетий. Да, нас учили по-другому. Давайте начнем с фольклора, перейдем к древнерусской литературе, классицизму, романтизму и т. д. Ничего не получится. А вот если я возьму современную книжку и увижу, как в этой современности по Разъезжей бродит Достоевский, как в романе «Голодное время» того же Носова, это другое дело.
Книгоедство
Сколько новых книг читаю в неделю? Это вы очень точный вопрос задали. Есть в социологии такое понятие «иерархия ценностей». Я, например, очень люблю музыку, люблю театр, спорт, друзей, родственников. Но если у меня есть выбор: пойти в театр, пойти в филармонию, встретиться с друзьями, навестить родственницу или почитать – я сяду читать книгу. Так было с раннего детства и по сей день. Есть, конечно, еще одно важное для меня дело — собирать грибы. Но чтение идет беспрерывно. Всех филологов объединяет любовь к книжкам, любовь к слову. Есть авторы, которых я перечитываю по 10-15 раз. Прежде всего это Пушкин, Толстой, Чехов, Бунин и Набоков. Их я могу цитировать наизусть, а остальных просто читаю. Очень важна для меня современная русская литература. Как я в ней ориентируюсь? Просто много читаю, а то что интересно, перечитываю. Кроме того, я знаком со многими авторами, хожу на их выступления.
О слове
Слову сейчас пришлось потесниться, ему живется не слишком хорошо. Еду недавно в электричке. Мне сообщают, что наш поезд следует до станции «Ораниенбаум» «со всеми остановками, кроме "Электродепо", следующая остановка — "Электродепо"». Во всем вагоне никто не улыбнулся. Я пришел домой и рассказываю. Взрослые члены семьи улыбнулись, дети — нет. Они не слышат текста — так же, как тот, кто читал это объявление. Люди привыкли к компьютеру, привыкли «схватывать» текст по диагонали, вылавливать только самый общий смысл.
Как выбрать книгу
Однажды я сидел в аэропорту, рейс откладывался. Я уже все прочел, что было с собой, смотреть в стенку больше не мог. Перепрыгнул через все запретные барьеры, пришел к книжному киоску. А там сплошь или детективы, или дамские романы. Читаю две страницы, и понимаю, что не могу. И вдруг среди всего этого обнаруживаю «Путь Мури» Ильи Бояшова. Я его тогда еще не читал. Это же был просто праздник. Но во всем киоске – только одна книжка, которую можно читать.
Когда я хочу узнать что-то о новых композиторах, я задам вопрос специалисту. Точно так же можно узнать и о книгах – спросите у знакомого филолога, писателя, редактора: «А что почитать»? И искать книги надо только по авторам. Другого пути нет. Чтобы кто-то порекомендовал. Только что кончил читать новое издание Софии Синицкой. Это очень интересный автор. Я ее с первого произведения и по сей день читаю с удовольствием. Поразительная манера. Из авторов среднего поколения — Сергей Носов, Павел Крусанов, Илья Бояшов. Носов связан с традициями Гоголя, Достоевского, Андрея Белого. Он безнадежно начитан, все на свете читал. Бояшов – широкий специалист и романист, он прекрасно осведомлен в таких разных областях как история и музыка. Александр Етоев — книгоед, как и я, он автор не только рассказов и повестей, у него есть, например, сочинение, которое так и называется: «Книгоедство. Выбранные места из книжной истории всех времен, планет и народов». Есть и старшее поколение. Даниил Александрович Гранин за последние 15 лет написал поразительную прозу. Представьте себе: творческий взлет, начатый в 85 и продолжающийся.
Насколько доверять литературным премиям? Однозначного ответа нет. В «Национальном бестселлере» хороший список номинаторов. В него входят Секацкий, Крусанов, Етоев, Носов – люди, которым можно доверять. Они предлагают, а потом решает жюри, тут уж не знаю, как оно отбирается. Как организована «Большая книга» не знаю. Я был номинатором в «Русском Букере», но там, увы, финал был предусмотрен. В таких случаях решения предопределяются по-разному. Помню, как-то премию получил писатель, который в тюрьме сидел — это была не совсем литература, но раз человек сидит, было решено, что надо дать.
О «сделанной» литературе
Есть авторы, которые пишут не потому, что не могут не писать, а в расчете на читателя. Писатели, которые хотят, чтобы их книги покупались, обречены на безнадежную тоску. Есть автор, который решил писать про Толстого — детектив про Толстого, эротический роман про Толстого и т. д. Его реалистический роман я прочел с удовольствием, а все остальное только пролистал. Потому что он всего лишь играет, разыгрывает различные пьесы на одну и туже тему — Лев Николаевич Толстой.
Но, конечно, и популярная литература имеет своего читателя. У Вересаева есть такой рассказ. Один рабочий научился грамоте, чтобы читать все выпуски про Ната Пинкертона. А потом заболел на полгода, после большого перерыва взялся за Пинкертона и понял, что ему уже скучно. И стал читать другую литературу. Есть надежда, что человек, который начал с Ната Пинкертона, перейдет на что-то более глубокое.
Я бы не стал ругать Акунина. Это все-таки очень высокий уровень знаний. Историю российской полиции он знает прекрасно. Замечательные подробности, больше нигде не вычитаешь. Или «Чапаев и пустота» у Пелевина — прекрасная книга. Но «Шлем ужаса» я уже не могу читать, хотя молодежи нравится. Это что-то из компьютерного мира.
О другой реальности
Кому-то нужна церковь, а кому-то нет. Так и литература. Она меня как-то постепенно переселяет из той жизни, которой я живу, в какую-то другую. Я попадаю в другую среду, в другие обстоятельства, другое сознание, совсем другое. Например, Каренин. Это не ваше сознание, нет, но вы его хорошо чувствуете. Вот он догадывается, что жена ему изменяет, он зовет ее и говорит, что семья — это фундамент государства, что в основе семьи лежит религия, что надо чтить институт брака. Он говорит банальности и скучно, ужасно он говорит, но Анну это трогает, и она шепчет про себя «Поздно, поздно, поздно». И вот это «поздно, поздно, поздно» действует на любого читателя, мужчину, женщину. Просто не каждому приходит в голову открыть «Анну Каренину». Но это удивительный эффект: я вдруг оказываюсь «своим» в какой-то чужой среде, которая открывается мне и становится понятной.
Глубины памяти
Автобиографические произведения — это моя основная тема, все мои статьи и книжки так или иначе возвращаются к ней. А началось все с повести «Котик Летаев». Я читал ее и думал: этого не может быть. Андрей Белый вспоминает, как он родился и как он жил до рождения. Я обратился к своему учителю Дмитрию Евгеньевичу Максимову, который до меня читал в университете курс по литературе Серебряного века. Он встречался с Андреем Белым (видите, как все близко) — спрашиваю у него, как все это понимать. А он отвечает: ничего не поделаешь, это правда, возьмите другие свидетельства. И я стал задавать вопросы всем подряд: какое ваше первое воспоминание? И оказалось, что люди очень многое помнят из своего младенчества. Оказалось, что воспоминания, память — это страшно интересно. Просто мы не даем себе труда спуститься вглубь нашей памяти.
Я однажды лежал в больнице. В палату приходит женщина, у нее удивительные какие-то глаза. Вечер, шторы открыты, а за окном большая круглая луна. Она говорит: «Можно я закрою?». Разговорились, и я попросил ее пересказать мне свое самое необычное воспоминание. Она рассказала, как шла по берегу залива в Репино и вдруг обнаружила, что идет по краю пустыни, на плечах огромный камень, а вокруг страшная жара. Прошло время, она оказалась на берегу залива и почувствовала, что у нее болит сердце. Обратилась к врачу, ей сказали, что у нее был приступ стенокардии… Такая история.
Воля писателя
Конечно, в автобиографии писатель порой выдает желаемое за действительное, встраивает себя в некую философскую систему. Человек, когда рассказывает о себе, неминуемо становится художником. Неминуемо возникают художественные детали. Эти детали потом хорошо пересказываются, записываются и входят в мемуары. А есть концептуальные мемуары, это где автор доказывает какую-нибудь идею.
от же Короленко, когда пишет «Историю моего современника», уверяет, что не будет говорить о себе, а только о тех, кто исполнил самый главный завет: «Иди к униженным, иди к обиженным, там нужен ты». Вот о чем он хотел написать. Но не получилось. Он решил, что сначала должен рассказать о себе, чтобы читателям была понятна призма, через которую все преломляется. И рассказал о детстве, о школьных годах, о первом приезде в Петербург. Знаете, что его поразило в Петербурге? Запах моря. Он сам с Украины. И это очень правдивые воспоминания. А под конец они, к сожалению, уже становятся традиционными мемуарами, описаниями встреч с разными людьми. Это интересно, это любопытно. Но именно первый том оказался подлинным художественным произведением. Потому что воспоминания о детстве неминуемо художественные. Тут ничего не поделаешь.
Бывают воспоминания абсолютно правдивые, но в них отсутствует автор. Например, в воспоминаниях Горького нет самого Горького. Вот что интересно. В воспоминаниях Толстого я отчетливо вижу автора: есть мальчик, и есть писатель, который описывает свое детство. А у Горького присутствует только мальчик, а взрослого Горького нет. Он занят фигурами дедушки, бабушки – и пишет о них всю правду. Читаешь с огромным удовольствием, но чувствуешь, что чего-то в этой правде не хватает. А бывают совсем другие мемуары – Набокова, Бунина, Андрея Белого, в них ты все время чувствуешь автора.
Я рассматриваю мемуары как лучшее произведение писателя, где он герой, он в центре повествования, сам становится предметом исследования. «Жизнь Арсеньева» Бунина — там все правда. Но как эта правда написана! Какой пейзаж, какие взаимоотношения, какая любовь. Но он изменил один важный сюжет. У него героиня умирает, а в действительности она не умерла. Но это не важно. Бунину нужно, чтобы она умерла. И он пишет: «Сегодня видел ее во сне». В романе — «Недавно я видел ее во сне – единственный раз за всю свою долгую жизнь без нее. Ей было столько же лет, как тогда, в пору нашей общей жизни и общей молодости, но в лице ее уже была прелесть увядшей красоты... Я видел ее смутно, но с такой силой любви, радости, с такой телесной и душевной близостью, которой не испытывал ни к кому никогда». В чем здесь дело? Любовь в этот момент, много лет спустя после расставания, осуществилась. А любовь — это вещь неосуществимая. Как говорит Чехов, любовь — это то великое, что было в прошлом или что-то великое, что будет в будущем, в настоящем она не удовлетворяет.
Бунин, как автор, произвел опыт над самим собой. Он вспомнил свою жизнь, и в результате этого опыта произошло самое яркое событие в его жизни: написав роман, он впервые понял, что такое любовь, скрепляющая телесное и духовное начало. Мемуары — это всегда взгляд на свою жизнь как на произведение и возможность пережить ее заново. Психологи говорят, что 95 процентов нашей жизни мы забываем. И если бы вели дневник, а потом прочитали через 20 лет, все равно не узнали бы, о чем там на самом деле шла речь. Я никогда не вел дневников, но однажды нашел тетрадочку – когда был в Крыму, почему-то пять эпизодов записал. Читаю и ничего вспомнить не могу. Кроме одной фразы — ее я вспомнил. Наша спутница училась плавать, и я написал: «Нырнула, такое впечатление, что в море упала дверь». И все. Все остальное забыто. Хотя эпизод был ярким: отпуск, Крым...
А вот у Чехова нет ни одного автобиографического произведения. Он очень закрытый человек. Практически никогда не бывал откровенным, даже в письмах. Он сам себя препарировать не стал. Автобиографических деталей в его произведениях, конечно, много. Например, обращение Гаева к многоуважаемому шкафу. Это реальные слова из детства Чехова — в шкафу были сладости, они закрывались на ключ, и дети разговаривали со шкафом: «Многоуважаемый…»
Свежий взгляд
Нет, мои лекции — это не популяризация. Мой учитель, Григорий Абрамович Бялый, прекрасный лектор, советовал перед тем, как читать лекцию, перечитывать художественное произведение. Вот я позавчера перечитал «Ионыча». Это было открытие. Потому что тот идиотизм, которым забивали меня в школе (это, мол, социальное произведение, Чехов будто бы хочет сказать: если лучшие люди таковы, то каковы же все остальные…), — к действительности отношения не имеет. Это замечательное произведение о любви. Это невероятное описание кладбища, такого описания больше нет в мировой литературе. Я перечитал два дня назад свежим взглядом и теперь могу читать лекцию.
Иногда я перечитываю все произведение, иногда только часть. Но до тех пор, пока не появится у меня новая мысль, я не смогу прочитать лекцию, я не умею дважды пересказывать совершенно одно и тоже. Иногда такая мысль приходит прямо во время лекции, и я отвлекаюсь от намеченного. Для меня особой разницы нет, читаю я для специалистов или на широкую, даже совсем не подготовленную аудиторию.
Лекция — это очень живой процесс взаимоотношений с аудиторией. Если она засыпает, надо рассказать анекдот. Я рассказываю только исторические анекдоты. А так как я живу бесконечно долго, то и помню бесконечно много. Недавно вспомнил: батюшки, как много президентов я пережил. Первого и называть не буду, потом началось: Маленков, Булганин, Хрущев… Рассказываю аудитории, а оказывается, что они о таких и не слышали. А я вдруг вспоминаю частушку, дурацкую: «Вот пришел Маленков, Даст он хлеба и блинков». Тогда был ужасный голод в стране, и вдруг, когда пришел Маленков появилась надежда, что в магазинах появится хлеб.
Лекторий в Охта Lab мне понравился. Очень хороший зал, очень хорошая аудитория. Лица симпатичные, слушают. Улыбаются, задумываются. Идет нормальная, живая беседа. Потом спросил у кого-то из руководителей, как они собрали такую хорошую аудиторию, оказалось — лекция бесплатная.
От современности к классике
Это самая распространенная точка зрения: вот я еще не прочел «Анну Каренину», а буду читать какие-то «Фигурные скобки» или «Зулейха открывает глаза», зачем тратить время на современных авторов, если нет уверенности — шедевр это или что-то второсортное. Ответ простой. Через современную литературу начинаешь лучше понимать литературу 18-19 столетий. Да, нас учили по-другому. Давайте начнем с фольклора, перейдем к древнерусской литературе, классицизму, романтизму и т. д. Ничего не получится. А вот если я возьму современную книжку и увижу, как в этой современности по Разъезжей бродит Достоевский, как в романе «Голодное время» того же Носова, это другое дело.
Литературная Газета 2008 №46 (6198) (12-11-2008) "Чехов снова в моде"
На вопросы корреспондента «ЛГ» ответил доктор филологических наук, профессор кафедры истории русской литературы филологического факультета СПбГУ Борис АВЕРИН.
Международная научная конференция «Образ Чехова и чеховской России в современном мире», приуроченная к 150-летию со дня рождения писателя, которое будет отмечаться в 2010 году, положила начало юбилейным торжествам. Устроители конференции – Институт русской литературы (Пушкинский Дом) РАН и филологический факультет Санкт-Петербургского университета (кафедра истории русской литературы). В Большом конференц-зале ИРЛИ открыта выставка, посвящённая А.П. Чехову.
Во многих докладах были предложены неожиданные взгляды на творчество Чехова. Н. Иванова (Новгородский университет) раскрыла тему «Чехов и дамская мода». Оказывается характер героини можно распознать по её манере одеваться. Н. Францова (Курский университет) говорила об именинах как сюжетообразующем компоненте чеховского текста, обратив внимание на магию имён и проведя параллель между Ириной из «Трёх сестёр» с Житием святой Ирины. Заинтересованное обсуждение вызвал доклад Б. Аверина (Санкт-Петербургский госуниверситет) «Вишнёвый сад» – драма или комедия?». Т. Касаткина (ИМЛИ РАН, Москва) увидела структурное сходство и совпадение поэтических приёмов в разработке принципа метафизического бумеранга в «Казаке» Чехова и фильме «Догвилль» Ларса фон Триера, когда обида оборачивается бедой обидчика. С. Евдокимова (Браун университет, США) рассмотрела как детектив не только «Шведскую спичку», но и «Даму с собачкой».
– Борис Валентинович, в чём, на ваш взгляд, актуальность творчества Чехова сегодня?
– Наверное, Чехов был первым писателем в русской литературе, который с огромным неудовольствием и неприятием относился ко всяческим идеологиям. Самое страшное слово для Чехова – последовательность. Чехов считал, что философия как таковая неинтересна. Интересен философ. Он любил не литературу, а литераторов! Сам же был человеком закрытым – в отличие от Толстого. Но когда я читаю Чехова, мне очень интересна его личность.
– Петербург – не чеховский город, и в Пушкинском Доме нет даже «отдела Чехова», но старт юбилею дан именно здесь. Как вы думаете, почему?
– Абсолютно верно, Чехов – человек Москвы. Он сюда приезжал к Суворину, жил у него, но не любил Петербург. Он – человек провинциальный, приехавший в Москву и полюбивший её. Потому что в Москве есть та теплота, которой нет в Петербурге. И Чехов эту теплоту очень хорошо чувствовал. Но думаю, что, если бы сейчас Чехов вышел на Тверскую, он бы воскликнул: «Боже мой! Худшие мои опасения подтвердились: через 200 лет здесь не будет лучше, здесь будет хуже…» Сегодня он не стал бы жить в Москве. И вообще Чехов был скептиком: на самом деле он не верил, что в XXI веке будет лучше. А верил он в то, что при любых обстоятельствах мы всё-таки останемся людьми!
Арина АБРОСИМОВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ–МОСКВА
Международная научная конференция «Образ Чехова и чеховской России в современном мире», приуроченная к 150-летию со дня рождения писателя, которое будет отмечаться в 2010 году, положила начало юбилейным торжествам. Устроители конференции – Институт русской литературы (Пушкинский Дом) РАН и филологический факультет Санкт-Петербургского университета (кафедра истории русской литературы). В Большом конференц-зале ИРЛИ открыта выставка, посвящённая А.П. Чехову.
Во многих докладах были предложены неожиданные взгляды на творчество Чехова. Н. Иванова (Новгородский университет) раскрыла тему «Чехов и дамская мода». Оказывается характер героини можно распознать по её манере одеваться. Н. Францова (Курский университет) говорила об именинах как сюжетообразующем компоненте чеховского текста, обратив внимание на магию имён и проведя параллель между Ириной из «Трёх сестёр» с Житием святой Ирины. Заинтересованное обсуждение вызвал доклад Б. Аверина (Санкт-Петербургский госуниверситет) «Вишнёвый сад» – драма или комедия?». Т. Касаткина (ИМЛИ РАН, Москва) увидела структурное сходство и совпадение поэтических приёмов в разработке принципа метафизического бумеранга в «Казаке» Чехова и фильме «Догвилль» Ларса фон Триера, когда обида оборачивается бедой обидчика. С. Евдокимова (Браун университет, США) рассмотрела как детектив не только «Шведскую спичку», но и «Даму с собачкой».
– Борис Валентинович, в чём, на ваш взгляд, актуальность творчества Чехова сегодня?
– Наверное, Чехов был первым писателем в русской литературе, который с огромным неудовольствием и неприятием относился ко всяческим идеологиям. Самое страшное слово для Чехова – последовательность. Чехов считал, что философия как таковая неинтересна. Интересен философ. Он любил не литературу, а литераторов! Сам же был человеком закрытым – в отличие от Толстого. Но когда я читаю Чехова, мне очень интересна его личность.
– Петербург – не чеховский город, и в Пушкинском Доме нет даже «отдела Чехова», но старт юбилею дан именно здесь. Как вы думаете, почему?
– Абсолютно верно, Чехов – человек Москвы. Он сюда приезжал к Суворину, жил у него, но не любил Петербург. Он – человек провинциальный, приехавший в Москву и полюбивший её. Потому что в Москве есть та теплота, которой нет в Петербурге. И Чехов эту теплоту очень хорошо чувствовал. Но думаю, что, если бы сейчас Чехов вышел на Тверскую, он бы воскликнул: «Боже мой! Худшие мои опасения подтвердились: через 200 лет здесь не будет лучше, здесь будет хуже…» Сегодня он не стал бы жить в Москве. И вообще Чехов был скептиком: на самом деле он не верил, что в XXI веке будет лучше. А верил он в то, что при любых обстоятельствах мы всё-таки останемся людьми!
Арина АБРОСИМОВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ–МОСКВА
Интервью для helengreentree@livejournal.com - Борис Аверин о времени, фильмах Сокурова и власти
Отсутствие идеалов, агрессивность — теневые стороны современной культуры. Теперь наше сознание обработано гораздо сильнее, чем во времена тоталитарного режима, — нас отучают думать, да и чувствовать. За 20–30 секунд СМИ тебе дают информацию, и ты ее поглощаешь. Сосредоточиться некогда…
Так думает Борис Аверин — известный российский ученый-филолог, профессор Санкт-Петербургского университета, автор и ведущий серии программ на радио и телевидении («Парадоксы истории», «Мистика судьбы», «Неизвестный Петергоф»), руководитель проекта научного переиздания журнала «Современные записки».
Он приехал в Харьков по приглашению Центра медиа-коммуникаций и визуальных исследований Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина и Центра современного искусства «YermilovСentre».
Интонация как метафора жизни
— Очень важна интонация, — говорит Борис Валентинович. — Я могу прочесть вам стихотворение Пушкина «Я помню чудное мгновенье…» и смысл его будет меняться в зависимости от того, на каком слове я поставлю логическое ударение.
«Гений чистой красоты» — это любимая формула В. Жуковского, который вкладывал в нее свое глубокое религиозное содержание. Это потрясло Пушкина. А потом все забылось! Но прошло какое-то время и «воскресли вновь и божество, и вдохновенье, и жизнь, и слезы, и любовь». Вы посмотрите, как много всего воскресло! Так вот, это и есть метафора человеческой жизни, потому что чаще всего мы помним какое-то мгновение, а потом с нами что-то происходит, и мы заново видим мир.
Особенность нашего восприятия мира состоит в том, что мы не видим практически ничего, у нас есть лишь картинки стандартного содержания, которые заслоняют мир. Задача творца (режиссера, актера, художника, фотохудожника, писателя) заставить нас заново увидеть мир, чтобы в душе настало пробужденье.
Несколько лет назад ко мне подошел Александр Николаевич Сокуров: «Вы у меня сыграете в фильме «Читаем «Блокадную книгу». Я говорю: «Что же там можно сыграть?». А он мне: «Я вам дам страницу текста и вы ее прочитаете».
Весь фильм построен на том, что 30 человек, из которых только трое — профессиональные актеры, а 27 чтецов — обычные люди, читают «Блокадную книгу».
Получилось 30 аудиотекстов, между которыми — документальные кадры. Фильм пользуется огромным успехом, потому что ведь по-настоящему «Блокадную книгу» никто не читал — это слишком страшно! Но, вы знаете, почему фильм получился? Потому что после всех этих страниц, которые читают обычные люди, после страшных документальных кадров, вдруг — фантастический фейерверк над Дворцовой площадью.
А дело в том, что снятие блокады Ленинграда мы празднуем фейерверками, радуемся. А это нельзя делать! Это день поминовения, поминать надо невинно убиенных, отторгнутых на произвол злой судьбы, на голод и лишения, на гибель под вражескими бомбами. Город — жертва, каким он открывается в этой, по определению Даниила Гранина, «эпопее человеческих страданий», это миллионы утраченных человеческих жизней. А мы фейерверки устраиваем. И в наше сознание эта мысль никак не входит. А Сокуров объяснил.
Между Богом и дьяволом
Год назад на церемонии закрытия Венецианского кинофестиваля Александр Сокуров получил «Золотого льва» за картину «Фауст», завершающую цикл, названный им тетралогией о власти. Она состоит из четырех фильмов «Молох», «Телец», «Солнце» и «Фауст».
— Что касается фильма «Молох», суть понятна. Это Гитлер. Самообожествление. Вождь, который осознает себя Богом, — говорит профессор Аверин. — Второй фильм «Телец» — это Ленин. Человек идеи всеобщего равенства. А такое равенство может обеспечить только государство. Но для этого в государстве должен быть человек, который следит за соблюдением равенства, а, значит, этот человек уже стоит над всеми. Поэтому добиться равенства в государстве, уничтожив частную собственность, — дело рискованное.
Фильм «Солнце». Император Хирохито. Как вы знаете, в Японии личность императора божественна. Но этот человек выступил и заявил, что личность императора не божественна и он снимает с себя звание и капитулирует. Миллион самураев готовы жизнь отдать за любимого императора и сокрушить вокруг все, а император отказывается от борьбы. Какой позор, какой ужас, — скажем мы. Но почему позор и ужас? Он ихтиологией увлекается, рыбок разводит, потому что он любит живое и совсем не любит мертвое. Для него лучше принять позор, сдаться на милость победителя, только чтобы не погибали люди. Этот человек, единственный в мире, на самом деле — Бог. Потому что прерогатива Бога — снять с себя власть. Не распять кого-то на кресте, а самому пойти на крест.
Кстати, постановлением японского правительства этот фильм русского режиссера обязателен к показу во всех японских школах.
Так вот, «Молох» — это обожествление себя ради власти. «Телец» — это обожествление идеи. «Солнце» — жест Бога. А что в «Фаусте» — кто здесь властвует?
На самом деле это не «Фауст» Гете. И режиссер подчеркивает, что фильм снимал «по мотивам».
— Я перечитал «Фауста» два-три раза и подумал, что наверняка будет выбран вот этот эпизод: Фауст говорит, что когда ему плохо, он любит почитать Евангелие. Это помогает. И вот он берет Евангелие и читает: «В начале было Слово…».
Как вы знаете, это первый текст, который был написан Кириллом Философом на славянском языке. Но весь вопрос, как он переводил? Мы же знаем, что Священное писание может быть только на трех языках — еврейском, греческом и латинском. А Фауст читает и говорит: «Я, пожалуй, не согласен, потому что в греческом тексте — это Логос. У этого слова примерно 16 значений, значит, мы можем выбрать любое. Одно из них — «разум».
В начале был Разум? Но Фауста и это не устраивает. Что же было в начале? Мысль? В начале была Сила? А это уже интересно. Это та сила, которой занимался Ньютон. Это же то, что держит все сущее вместе. Гравитация.
А что это такое — гравитация? Я спросил об этом одного крупного физика-теоретика. И он ответил: «Гравитация — это то, что меряет гравитометр». Очень даже философский ответ. И вот, к примеру, наш глаз — это тот же прибор, который меряет только то, на что он настроен, пока Художник не сделает что-то с нашим сознанием. Вот как вырвать из нас эту привычную картину мира? Мир серый, однозначный, однотонный, неинтересный… Может, в начале было Дело?
— О! — восклицает Фауст. — Вот это да! Я начинаю делать, а когда я заканчиваю — это может быть совсем не то, с чего я начал. Потому что в процессе «делания» происходит познание. И рождаются и новая мысль, и новое слово.
Но кто же олицетворяет власть в «Фаусте»? Ростовщик? Дьявол? Но дьявол — не человек, он чудовищно нелеп и страшен. Но какой-то властью он обладает. И вот финал: они идут и попадают в царство мертвых. Отсюда мы должны вернуться назад — в небо. Ведь мы пришли оттуда, нам оттуда весть дана. А не получается! Фауст движется, впереди — гора, в ней вроде бы — просвет, но сам-то он идет вниз — в бездну.
И тут возникает мысль, простая как мычание. Самая страшная власть — это власть наших низменных инстинктов над нами же самими.
И хотя Фауст рвет свой договор с дьяволом, эту власть ему не преодолеть.
Не было точки земного шара, куда бы ХХ век не принес нечто исключительно чудовищное. Немцы изобрели и применили в Первую мировую войну химическое оружие. Ну и что? Мы атомную бомбу изобрели.
Смысл в том, что над человеком властвует вот это низменное, звериное чувство, которое, судя по всему, все разрастается и разрастается. Сценарист фильма Юрий Арабов трактовал свой сюжет так: «Здесь нет метафизической надежды».
Я иногда вижу эту надежду, когда вижу в картине свет. Свет здесь иногда божественный. Вот единственная надежда, которая есть в «Фаусте». А вообще страшно…
Так думает Борис Аверин — известный российский ученый-филолог, профессор Санкт-Петербургского университета, автор и ведущий серии программ на радио и телевидении («Парадоксы истории», «Мистика судьбы», «Неизвестный Петергоф»), руководитель проекта научного переиздания журнала «Современные записки».
Он приехал в Харьков по приглашению Центра медиа-коммуникаций и визуальных исследований Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина и Центра современного искусства «YermilovСentre».
Интонация как метафора жизни
— Очень важна интонация, — говорит Борис Валентинович. — Я могу прочесть вам стихотворение Пушкина «Я помню чудное мгновенье…» и смысл его будет меняться в зависимости от того, на каком слове я поставлю логическое ударение.
«Гений чистой красоты» — это любимая формула В. Жуковского, который вкладывал в нее свое глубокое религиозное содержание. Это потрясло Пушкина. А потом все забылось! Но прошло какое-то время и «воскресли вновь и божество, и вдохновенье, и жизнь, и слезы, и любовь». Вы посмотрите, как много всего воскресло! Так вот, это и есть метафора человеческой жизни, потому что чаще всего мы помним какое-то мгновение, а потом с нами что-то происходит, и мы заново видим мир.
Особенность нашего восприятия мира состоит в том, что мы не видим практически ничего, у нас есть лишь картинки стандартного содержания, которые заслоняют мир. Задача творца (режиссера, актера, художника, фотохудожника, писателя) заставить нас заново увидеть мир, чтобы в душе настало пробужденье.
Несколько лет назад ко мне подошел Александр Николаевич Сокуров: «Вы у меня сыграете в фильме «Читаем «Блокадную книгу». Я говорю: «Что же там можно сыграть?». А он мне: «Я вам дам страницу текста и вы ее прочитаете».
Весь фильм построен на том, что 30 человек, из которых только трое — профессиональные актеры, а 27 чтецов — обычные люди, читают «Блокадную книгу».
Получилось 30 аудиотекстов, между которыми — документальные кадры. Фильм пользуется огромным успехом, потому что ведь по-настоящему «Блокадную книгу» никто не читал — это слишком страшно! Но, вы знаете, почему фильм получился? Потому что после всех этих страниц, которые читают обычные люди, после страшных документальных кадров, вдруг — фантастический фейерверк над Дворцовой площадью.
А дело в том, что снятие блокады Ленинграда мы празднуем фейерверками, радуемся. А это нельзя делать! Это день поминовения, поминать надо невинно убиенных, отторгнутых на произвол злой судьбы, на голод и лишения, на гибель под вражескими бомбами. Город — жертва, каким он открывается в этой, по определению Даниила Гранина, «эпопее человеческих страданий», это миллионы утраченных человеческих жизней. А мы фейерверки устраиваем. И в наше сознание эта мысль никак не входит. А Сокуров объяснил.
Между Богом и дьяволом
Год назад на церемонии закрытия Венецианского кинофестиваля Александр Сокуров получил «Золотого льва» за картину «Фауст», завершающую цикл, названный им тетралогией о власти. Она состоит из четырех фильмов «Молох», «Телец», «Солнце» и «Фауст».
— Что касается фильма «Молох», суть понятна. Это Гитлер. Самообожествление. Вождь, который осознает себя Богом, — говорит профессор Аверин. — Второй фильм «Телец» — это Ленин. Человек идеи всеобщего равенства. А такое равенство может обеспечить только государство. Но для этого в государстве должен быть человек, который следит за соблюдением равенства, а, значит, этот человек уже стоит над всеми. Поэтому добиться равенства в государстве, уничтожив частную собственность, — дело рискованное.
Фильм «Солнце». Император Хирохито. Как вы знаете, в Японии личность императора божественна. Но этот человек выступил и заявил, что личность императора не божественна и он снимает с себя звание и капитулирует. Миллион самураев готовы жизнь отдать за любимого императора и сокрушить вокруг все, а император отказывается от борьбы. Какой позор, какой ужас, — скажем мы. Но почему позор и ужас? Он ихтиологией увлекается, рыбок разводит, потому что он любит живое и совсем не любит мертвое. Для него лучше принять позор, сдаться на милость победителя, только чтобы не погибали люди. Этот человек, единственный в мире, на самом деле — Бог. Потому что прерогатива Бога — снять с себя власть. Не распять кого-то на кресте, а самому пойти на крест.
Кстати, постановлением японского правительства этот фильм русского режиссера обязателен к показу во всех японских школах.
Так вот, «Молох» — это обожествление себя ради власти. «Телец» — это обожествление идеи. «Солнце» — жест Бога. А что в «Фаусте» — кто здесь властвует?
На самом деле это не «Фауст» Гете. И режиссер подчеркивает, что фильм снимал «по мотивам».
— Я перечитал «Фауста» два-три раза и подумал, что наверняка будет выбран вот этот эпизод: Фауст говорит, что когда ему плохо, он любит почитать Евангелие. Это помогает. И вот он берет Евангелие и читает: «В начале было Слово…».
Как вы знаете, это первый текст, который был написан Кириллом Философом на славянском языке. Но весь вопрос, как он переводил? Мы же знаем, что Священное писание может быть только на трех языках — еврейском, греческом и латинском. А Фауст читает и говорит: «Я, пожалуй, не согласен, потому что в греческом тексте — это Логос. У этого слова примерно 16 значений, значит, мы можем выбрать любое. Одно из них — «разум».
В начале был Разум? Но Фауста и это не устраивает. Что же было в начале? Мысль? В начале была Сила? А это уже интересно. Это та сила, которой занимался Ньютон. Это же то, что держит все сущее вместе. Гравитация.
А что это такое — гравитация? Я спросил об этом одного крупного физика-теоретика. И он ответил: «Гравитация — это то, что меряет гравитометр». Очень даже философский ответ. И вот, к примеру, наш глаз — это тот же прибор, который меряет только то, на что он настроен, пока Художник не сделает что-то с нашим сознанием. Вот как вырвать из нас эту привычную картину мира? Мир серый, однозначный, однотонный, неинтересный… Может, в начале было Дело?
— О! — восклицает Фауст. — Вот это да! Я начинаю делать, а когда я заканчиваю — это может быть совсем не то, с чего я начал. Потому что в процессе «делания» происходит познание. И рождаются и новая мысль, и новое слово.
Но кто же олицетворяет власть в «Фаусте»? Ростовщик? Дьявол? Но дьявол — не человек, он чудовищно нелеп и страшен. Но какой-то властью он обладает. И вот финал: они идут и попадают в царство мертвых. Отсюда мы должны вернуться назад — в небо. Ведь мы пришли оттуда, нам оттуда весть дана. А не получается! Фауст движется, впереди — гора, в ней вроде бы — просвет, но сам-то он идет вниз — в бездну.
И тут возникает мысль, простая как мычание. Самая страшная власть — это власть наших низменных инстинктов над нами же самими.
И хотя Фауст рвет свой договор с дьяволом, эту власть ему не преодолеть.
Не было точки земного шара, куда бы ХХ век не принес нечто исключительно чудовищное. Немцы изобрели и применили в Первую мировую войну химическое оружие. Ну и что? Мы атомную бомбу изобрели.
Смысл в том, что над человеком властвует вот это низменное, звериное чувство, которое, судя по всему, все разрастается и разрастается. Сценарист фильма Юрий Арабов трактовал свой сюжет так: «Здесь нет метафизической надежды».
Я иногда вижу эту надежду, когда вижу в картине свет. Свет здесь иногда божественный. Вот единственная надежда, которая есть в «Фаусте». А вообще страшно…
Беседа с журналом "Костер" январь 2013 г. - "В основе мира-тайна и чудо"
Дорогие друзья! Мы продолжаем беседу с известным литературоведом, доктором филологических наук, профессором кафедры истории русской литературы филологического факультета Санкт-Петербургского Государственного Университета Борисом Валентиновичем АВЕРИНЫМ. Начало беседы можно прочитать в октябрьском номере «Костра» 2012 года («Костер» № 10, 2012, с. 4–5).
— Борис Валентинович, скажите, пожалуйста, есть ли такая книга, которую обязательно нужно прочесть в детстве, юности?
— Самое сильное влияние на меня оказал роман Джека Лондона «Мартин Иден», который я прочел в девятом классе. Все молодые люди нацелены на будущее. Так и должно быть. Просто одни хотят стать богатыми, а другие хотят открытие сделать. Ребенок, подросток, юноша желают творить. Так вот, Мартин Иден. Человек творческий. Он добился всего. С каким волнением я следил за его жизненным путем! Он, человек из народа, хочет стать культурным, завоевать своими произведениями весь мир, добиться известности, признания, мечтает, чтобы его полюбила умная женщина из высшего общества… И вот у него все есть. Он всего добился. И что же? Он заканчивает жизнь самоубийством. В таком финале заключается философская загадка. Я год над ней думал. Как так? Всего добился — иничего не надо? Но ведь цель делания не в достижении результата самом по себе. Главное — процесс творчества. Вот Лев Толстой различает труд для хлеба насущного и труд для души, труд-молитву. В западной литературе часто встречается идеализация труда, который ведет к материальному успеху. Но Толстой с таким взглядом не согласен. Самое главное для него в другом. Наблюдай за собой, очищай свою душу. Толстой пишет в дневнике: я иногда чувствую, что через меня говорит Бог, только это бывает очень редко, потому что душа грязная. А Баздеев в «Войне и мире» примерно так говорит Пьеру: «Что ты пытаешься вычитать смысл жизни из книжек? Да ты очисти душу, потому что в грязный сосуд чистое вино не наливают». Труд для Толстого связан с нравственностью. И цель такого труда не исчерпывается достижением того или иного конкретного результата.
— Борис Валентинович, в прошлый раз в беседе с Вами мы остановились на воспитании души. Так что же все-таки это такое?
— Воспитание души… Видите ли, наше главное заболевание — забывчивость. Душа больна забвением. Мы забыли свое бытие в раю. Это нижний слой памяти, самый главный — воспоминание о рае. Мы просто его забыли и вспоминаем только тогда, когда видим что-то прекрасное. Или когда влюбляемся. Человек в такие минуты переживает то, что он якобы забыл. Как у Платона — душа с неба наблюдала за жизнью на земле, потом воплотилась в этом мире и забыла рай. Греки говорили, что всякое знание есть воспоминание. В восьмилетнем возрасте я попал из холодногоМурманска в парки Петергофа. В ту среду, которая меня совершенно поразила. Я попал в свой забытый рай. И я узнавал парки, пруды, озера, каналы, шлюзы… Узнавал и обретал вновь. Из детства помнится только это — волшебство и красота рая, зеленый и пропитанный солнцем Петергоф. А ведь детство не было безоблачным. Я рос в абсолютно бедной семье. Разбитые ботинки, рваное пальто. В школу ходил в застиранном лыжном костюме. В то время никогда не спрашивали, кто твой папа. После войны почти у всех отцы либо погибли на фронте, либо сидели в лагерях. Наверняка я в детстве голодал — в школе дразнили Дистрофиком, наверняка много болел. Но я этого не помню. Помню только это чудо обретенного рая.
— К сожалению, в школе не учат «вспоминать» знания.
— В школе даются механические знания, прикладные. Они нацелены на результат. В юности возникает такая иллюзия, что мы всё знаем, а если не знаем, то сможем всё узнать. Есть такой период в жизни — «всезнающая юность». Но ведь знание убивает воспоминание. Помню такой случай из детства. Мне 10 лет. Я иду по полю. Пахнут травы, стрекочут кузнечики. В траве сверкает роса. И вдруг из-под ног взлетает птица. Громкое хлопанье крыльев. Неожиданность. Я испугался и прижался к кочке. И вот я, сидящий на кочке, вижу мальчика, который испугался птицы и прижался к земле. Я вижу самого себя откуда-то сверху. Вот этот взгляд на самого себя с необычной точки — это и есть пробуждение души. Это самоосознание. С какой точки зрения я наблюдаю себя, когда размышляю о том, о чем размышляю? Это основа философии. Детская душа обожествляет мир, природу, человека, родителей, близких. Но с приобретением прикладных знаний вера умирает. Ведь ответ о том, что есть мир, не найдешь в учебнике математики или физики. Они дают лишь иллюзию того, что мир прост, понятен, исчислим. Естественные науки вольно или невольно отрицают непознаваемость мира, то есть то самое чудо и тайну, которые так хорошо знает ребенок и которые он находит в мифе, сказке, стихотворении.
— А были ли еще в Вашем детстве подобные открытия и потрясения, как тот случай с птицей?
— В шесть лет я испытал горькое ощущение неустроенности мира и неправильности бытия. Я играл во дворе, а неподалеку от крыльца шофер чинил свою машину. Тогда удивительные были машины — они ездили на дровах. По бокам машины были приделаны такие топки-бочки, в которых жгли дрова. Шофер заметил мои горящие глаза и спросил: «Нравится?» Я кивнул, потому что говорить от восторга не мог. Тогда он сказал: «Приходи завтра, я тебя покатаю!» Не помню, как я спал в ту ночь и спал ли вообще, но с первыми лучами утренней зари я уже сидел на крыльце и ждал. Ждал весь день. До самой ночи. Шофер так и не приехал. У меня не возникло обиды из-за того, что человек не исполнил обещания — чувство, которое я испытал, было ощущением какого-то странного изъяна в устройстве мира, какой-то необъяснимой ошибки.
А вот другой эпизод. Моим лучшим учителем жизни был наш учитель физкультуры. Мы ходили в походы. Однажды он сидел на берегу озера и смотрел на заходящее солнце. Свой восторг он выразил с помощью ненормативной лексики, которая вообще преобладала в его речи. Но это было не важно, потому что мы поняли главное — мы вместе с ним пережили восторг перед миром. Мы поняли, что мир прекрасен. А в основе мира — Тайна и Чудо.
Беседовал Н. ХАРЛАМПИЕВ
— Борис Валентинович, скажите, пожалуйста, есть ли такая книга, которую обязательно нужно прочесть в детстве, юности?
— Самое сильное влияние на меня оказал роман Джека Лондона «Мартин Иден», который я прочел в девятом классе. Все молодые люди нацелены на будущее. Так и должно быть. Просто одни хотят стать богатыми, а другие хотят открытие сделать. Ребенок, подросток, юноша желают творить. Так вот, Мартин Иден. Человек творческий. Он добился всего. С каким волнением я следил за его жизненным путем! Он, человек из народа, хочет стать культурным, завоевать своими произведениями весь мир, добиться известности, признания, мечтает, чтобы его полюбила умная женщина из высшего общества… И вот у него все есть. Он всего добился. И что же? Он заканчивает жизнь самоубийством. В таком финале заключается философская загадка. Я год над ней думал. Как так? Всего добился — иничего не надо? Но ведь цель делания не в достижении результата самом по себе. Главное — процесс творчества. Вот Лев Толстой различает труд для хлеба насущного и труд для души, труд-молитву. В западной литературе часто встречается идеализация труда, который ведет к материальному успеху. Но Толстой с таким взглядом не согласен. Самое главное для него в другом. Наблюдай за собой, очищай свою душу. Толстой пишет в дневнике: я иногда чувствую, что через меня говорит Бог, только это бывает очень редко, потому что душа грязная. А Баздеев в «Войне и мире» примерно так говорит Пьеру: «Что ты пытаешься вычитать смысл жизни из книжек? Да ты очисти душу, потому что в грязный сосуд чистое вино не наливают». Труд для Толстого связан с нравственностью. И цель такого труда не исчерпывается достижением того или иного конкретного результата.
— Борис Валентинович, в прошлый раз в беседе с Вами мы остановились на воспитании души. Так что же все-таки это такое?
— Воспитание души… Видите ли, наше главное заболевание — забывчивость. Душа больна забвением. Мы забыли свое бытие в раю. Это нижний слой памяти, самый главный — воспоминание о рае. Мы просто его забыли и вспоминаем только тогда, когда видим что-то прекрасное. Или когда влюбляемся. Человек в такие минуты переживает то, что он якобы забыл. Как у Платона — душа с неба наблюдала за жизнью на земле, потом воплотилась в этом мире и забыла рай. Греки говорили, что всякое знание есть воспоминание. В восьмилетнем возрасте я попал из холодногоМурманска в парки Петергофа. В ту среду, которая меня совершенно поразила. Я попал в свой забытый рай. И я узнавал парки, пруды, озера, каналы, шлюзы… Узнавал и обретал вновь. Из детства помнится только это — волшебство и красота рая, зеленый и пропитанный солнцем Петергоф. А ведь детство не было безоблачным. Я рос в абсолютно бедной семье. Разбитые ботинки, рваное пальто. В школу ходил в застиранном лыжном костюме. В то время никогда не спрашивали, кто твой папа. После войны почти у всех отцы либо погибли на фронте, либо сидели в лагерях. Наверняка я в детстве голодал — в школе дразнили Дистрофиком, наверняка много болел. Но я этого не помню. Помню только это чудо обретенного рая.
— К сожалению, в школе не учат «вспоминать» знания.
— В школе даются механические знания, прикладные. Они нацелены на результат. В юности возникает такая иллюзия, что мы всё знаем, а если не знаем, то сможем всё узнать. Есть такой период в жизни — «всезнающая юность». Но ведь знание убивает воспоминание. Помню такой случай из детства. Мне 10 лет. Я иду по полю. Пахнут травы, стрекочут кузнечики. В траве сверкает роса. И вдруг из-под ног взлетает птица. Громкое хлопанье крыльев. Неожиданность. Я испугался и прижался к кочке. И вот я, сидящий на кочке, вижу мальчика, который испугался птицы и прижался к земле. Я вижу самого себя откуда-то сверху. Вот этот взгляд на самого себя с необычной точки — это и есть пробуждение души. Это самоосознание. С какой точки зрения я наблюдаю себя, когда размышляю о том, о чем размышляю? Это основа философии. Детская душа обожествляет мир, природу, человека, родителей, близких. Но с приобретением прикладных знаний вера умирает. Ведь ответ о том, что есть мир, не найдешь в учебнике математики или физики. Они дают лишь иллюзию того, что мир прост, понятен, исчислим. Естественные науки вольно или невольно отрицают непознаваемость мира, то есть то самое чудо и тайну, которые так хорошо знает ребенок и которые он находит в мифе, сказке, стихотворении.
— А были ли еще в Вашем детстве подобные открытия и потрясения, как тот случай с птицей?
— В шесть лет я испытал горькое ощущение неустроенности мира и неправильности бытия. Я играл во дворе, а неподалеку от крыльца шофер чинил свою машину. Тогда удивительные были машины — они ездили на дровах. По бокам машины были приделаны такие топки-бочки, в которых жгли дрова. Шофер заметил мои горящие глаза и спросил: «Нравится?» Я кивнул, потому что говорить от восторга не мог. Тогда он сказал: «Приходи завтра, я тебя покатаю!» Не помню, как я спал в ту ночь и спал ли вообще, но с первыми лучами утренней зари я уже сидел на крыльце и ждал. Ждал весь день. До самой ночи. Шофер так и не приехал. У меня не возникло обиды из-за того, что человек не исполнил обещания — чувство, которое я испытал, было ощущением какого-то странного изъяна в устройстве мира, какой-то необъяснимой ошибки.
А вот другой эпизод. Моим лучшим учителем жизни был наш учитель физкультуры. Мы ходили в походы. Однажды он сидел на берегу озера и смотрел на заходящее солнце. Свой восторг он выразил с помощью ненормативной лексики, которая вообще преобладала в его речи. Но это было не важно, потому что мы поняли главное — мы вместе с ним пережили восторг перед миром. Мы поняли, что мир прекрасен. А в основе мира — Тайна и Чудо.
Беседовал Н. ХАРЛАМПИЕВ
Беседа с журналом "Костер" апрель 2013 г. - "Аптека для души"
У нас в гостях известный литературовед, доктор филологических наук, профессор кафедры истории русской литературы филологического факультета Санкт-Петербургского Государственного Университета, член Всемирного клуба петербуржцев Борис Валентинович АВЕРИН. Начало беседы с Борисом Валентиновичем можно прочесть в «Костре» № 10, 2012 и в «Костре» № 1, 2013.
— Борис Валентинович, расскажите, пожалуйста, о книгах своего детства.
— Удивительно, но в своих первых книгах я плохо помню тексты. Тогда, в раннем детстве, главными были картинки. Вспоминаю книгу «Русские богатыри». Содержание — так, смутно брезжит. Помню «Соловья-разбойника». Вероятно, это был сборник былин. Обложку его вижу как сейчас — «Три богатыря» Васнецова. Я все пытался понять, почему она мне так нравится, и наконец понял: потому, что богатыри были разные. По-разному смотрят, у них разные лошади. Потом был «Букварь». На обложке — Левитан, «Летний вечер». Полоска леса вдалеке…Потом была «Родная речь». Первый текст, который запомнился — «Дети подземелья» Короленко, хотя произведения с таким заглавием он не писал — это была глава из повести «В дурном обществе». Герой этой повести, сын судьи Валёк, попадает к своим несчастным знакомым, живущим в склепе на кладбище. Он твердо знает, что воровать нехорошо, но когда встречается с ними, понимает, что эта неоспоримая истина здесь теряет свою убедительность. Мое детское сознание было потрясено. Удивительно, что много лет спустя я написал свою кандидатскую диссертацию именно о Короленко.
Кстати, один из первых текстов, которые я прочитал, был совсем не книжный, а рукописный. Я учился тогда во втором классе и шел по зимней дубовой аллее в школу. Вдруг я увидел под ногами сложенный листок в косую линейку. Что-то написано чернильным карандашом. Это такой простой карандаш, который, когда его намочишь, пишет чернилами. И там я читаю три слова: «Сталин враг народа». А я-то — второклассник, для меня Сталин — Бог. Меня научили так в школе, и я искренне так думал. Я прочел записку и так напугался, что тут же изорвал ее в клочья и выбросил. И забыл! Такова особенность человеческой психологии — забывать то, чего не хочется помнить. А вспомнился мне этот эпизод, когда я учился уже в старших классах, когда был ХХ съезд. Я услышал те же слова — «враг народа» — и мне сразу все вспомнилось… Зима, заснеженная дубовая аллея, строчка на листке.
Детская душа вольно или невольно стремится обожествлять мир, и это желание живет в каждом ребенке, а потом убывает. Взрослые занимаются делами, наукой, работой, заработком денег. И чаще всего смутное сознание таинственности и божественности мира подменяется простыми и понятными вещами. Насколько ребенок сможет запомнить свое первоначальное восприятие мира, настолько богатым будет его внутренний мир.
— В пору вашего детства все были атеистами.
— Да, религиозные проблемы были решены сразу, еще в школе. Нам объяснили, что в Бога веруют только неграмотные люди. В университете у нас был предмет — научный атеизм. Преподаватель всем ставил одну отметку — пять, ведь вокруг сидели атеисты. На первой лекции он нам сообщил: наибольшее количество верующих — среди необразованных. С повышением образования количество верующих убывает. Я бы добавил — с получением прикладных знаний, вот тех самых физик-химий-математик. А вот на уровне нобелевских лауреатов и академиков — практически все верующие. Я был потрясен.
История религии дает нам возможность задуматься об одном простом вопросе. Вот есть ребенок — он всегда верующий, потому что его душа помнит Тайну мира. В школе мне очень нравилась повесть Горького «Детство», а из нее, непонятно почему, запомнился один странный эпизод. Мальчик говорит автору: «Пойдем, я тебе покажу тайну» — и приводит его к пещерке. А в пещерке — что-то вроде алтаря. А там — мертвый воробей… О чем пишет Горький! Какой сюжет он вытащил! Это не просто религиозность, а религиозность с созданием культа. Потом Юнг, описывая свое младенчество и детство, создаст учение об архетипах. Архетип — это наше древнейшее воспоминание о мифах. Они ведь живут в нас бессознательно, но иногда проявляются, только мы не всегда отдаем себе в этом отчет… Мифология — это философия детства человечества, там заложены основы истины. Там все объяснено, что не может объяснить прикладная наука. Там рассказано устройство мира. Потом, когда я начал в университете читать древнерусскую литературу и прочел «Повесть временных лет», я понял, в чем отличие мышления древнего праведного человека от сознания нашего современника. Летописец обдумывает все с самого начала — с того, как Бог создал мир, отделил одно от другого, создал человека… И начинает рассказывать, как земля была разделена между Симом, Хамом и Иафетом, и так подходит к истории России. Он говорит нам: «С начала! Давайте начнем всё с начала!» А что говорит наука о начале?
— Что в начале был Большой Взрыв…
— Да, теория Большого Взрыва. Но начинается все не с самого взрыва, а с первой миллисекунды, когда Вселенная начинает расширяться. По-моему, это большая ерунда. Но она интересна тем, что мне неминуемо хочется знать, с чего все началось. Потому что если я не знаю, с чего все началось, то я не могу строить причинно-следственный ряд. Мне нужна причина и следствие, потом веер причин, веер следствий. Нужно НАЧАЛО. И вот это знание, с чего все началось — это самое главное для человека знание. Как все возникло? Но здесь нет рационального ответа… Разве что детскому сознанию доступна эта тайна.
Беседовал Николай ХАРЛАМПИЕВ
— Борис Валентинович, расскажите, пожалуйста, о книгах своего детства.
— Удивительно, но в своих первых книгах я плохо помню тексты. Тогда, в раннем детстве, главными были картинки. Вспоминаю книгу «Русские богатыри». Содержание — так, смутно брезжит. Помню «Соловья-разбойника». Вероятно, это был сборник былин. Обложку его вижу как сейчас — «Три богатыря» Васнецова. Я все пытался понять, почему она мне так нравится, и наконец понял: потому, что богатыри были разные. По-разному смотрят, у них разные лошади. Потом был «Букварь». На обложке — Левитан, «Летний вечер». Полоска леса вдалеке…Потом была «Родная речь». Первый текст, который запомнился — «Дети подземелья» Короленко, хотя произведения с таким заглавием он не писал — это была глава из повести «В дурном обществе». Герой этой повести, сын судьи Валёк, попадает к своим несчастным знакомым, живущим в склепе на кладбище. Он твердо знает, что воровать нехорошо, но когда встречается с ними, понимает, что эта неоспоримая истина здесь теряет свою убедительность. Мое детское сознание было потрясено. Удивительно, что много лет спустя я написал свою кандидатскую диссертацию именно о Короленко.
Кстати, один из первых текстов, которые я прочитал, был совсем не книжный, а рукописный. Я учился тогда во втором классе и шел по зимней дубовой аллее в школу. Вдруг я увидел под ногами сложенный листок в косую линейку. Что-то написано чернильным карандашом. Это такой простой карандаш, который, когда его намочишь, пишет чернилами. И там я читаю три слова: «Сталин враг народа». А я-то — второклассник, для меня Сталин — Бог. Меня научили так в школе, и я искренне так думал. Я прочел записку и так напугался, что тут же изорвал ее в клочья и выбросил. И забыл! Такова особенность человеческой психологии — забывать то, чего не хочется помнить. А вспомнился мне этот эпизод, когда я учился уже в старших классах, когда был ХХ съезд. Я услышал те же слова — «враг народа» — и мне сразу все вспомнилось… Зима, заснеженная дубовая аллея, строчка на листке.
Детская душа вольно или невольно стремится обожествлять мир, и это желание живет в каждом ребенке, а потом убывает. Взрослые занимаются делами, наукой, работой, заработком денег. И чаще всего смутное сознание таинственности и божественности мира подменяется простыми и понятными вещами. Насколько ребенок сможет запомнить свое первоначальное восприятие мира, настолько богатым будет его внутренний мир.
— В пору вашего детства все были атеистами.
— Да, религиозные проблемы были решены сразу, еще в школе. Нам объяснили, что в Бога веруют только неграмотные люди. В университете у нас был предмет — научный атеизм. Преподаватель всем ставил одну отметку — пять, ведь вокруг сидели атеисты. На первой лекции он нам сообщил: наибольшее количество верующих — среди необразованных. С повышением образования количество верующих убывает. Я бы добавил — с получением прикладных знаний, вот тех самых физик-химий-математик. А вот на уровне нобелевских лауреатов и академиков — практически все верующие. Я был потрясен.
История религии дает нам возможность задуматься об одном простом вопросе. Вот есть ребенок — он всегда верующий, потому что его душа помнит Тайну мира. В школе мне очень нравилась повесть Горького «Детство», а из нее, непонятно почему, запомнился один странный эпизод. Мальчик говорит автору: «Пойдем, я тебе покажу тайну» — и приводит его к пещерке. А в пещерке — что-то вроде алтаря. А там — мертвый воробей… О чем пишет Горький! Какой сюжет он вытащил! Это не просто религиозность, а религиозность с созданием культа. Потом Юнг, описывая свое младенчество и детство, создаст учение об архетипах. Архетип — это наше древнейшее воспоминание о мифах. Они ведь живут в нас бессознательно, но иногда проявляются, только мы не всегда отдаем себе в этом отчет… Мифология — это философия детства человечества, там заложены основы истины. Там все объяснено, что не может объяснить прикладная наука. Там рассказано устройство мира. Потом, когда я начал в университете читать древнерусскую литературу и прочел «Повесть временных лет», я понял, в чем отличие мышления древнего праведного человека от сознания нашего современника. Летописец обдумывает все с самого начала — с того, как Бог создал мир, отделил одно от другого, создал человека… И начинает рассказывать, как земля была разделена между Симом, Хамом и Иафетом, и так подходит к истории России. Он говорит нам: «С начала! Давайте начнем всё с начала!» А что говорит наука о начале?
— Что в начале был Большой Взрыв…
— Да, теория Большого Взрыва. Но начинается все не с самого взрыва, а с первой миллисекунды, когда Вселенная начинает расширяться. По-моему, это большая ерунда. Но она интересна тем, что мне неминуемо хочется знать, с чего все началось. Потому что если я не знаю, с чего все началось, то я не могу строить причинно-следственный ряд. Мне нужна причина и следствие, потом веер причин, веер следствий. Нужно НАЧАЛО. И вот это знание, с чего все началось — это самое главное для человека знание. Как все возникло? Но здесь нет рационального ответа… Разве что детскому сознанию доступна эта тайна.
Беседовал Николай ХАРЛАМПИЕВ
Беседа с журналом "Костер" ноябрь-декабрь 2013 г. - "Величины постоянные"
У нас в гостях известный литературовед, доктор филологических наук, профессор кафедры истории русской литературы филологического факультета Санкт-Петербургского Государственного Университета, член Всемирного клуба петербуржцев Борис Валентинович АВЕРИН. Начало беседы с Борисом Валентиновичем можно прочесть в «Костре» № 10, 2012, в «Костре» № 1 и в «Костре» №4, 2013.
— Борис Валентинович, расскажите, пожалуйста, о своих школьных годах.
— В школе я учился плохо. Мне было скучно. В шестом классе даже получил двойку по математике за год. Летом выучил учебник, ничего в нем не понимая, сдал — и забыл. Зато при сдаче вступительного экзамена на геофизический факультет преподавательница мне сказала: «Вы ведь ничего не знаете по математике…» Я честно ответил: «Совершенно с вами согласен, не знаю ни-че-го…» Тогда Фаина Марковна, так звали преподавательницу, сказала: «Все-таки я вас приму и научу». Через полгода я уже решал дифференциалы, настолько мне было интересно! В каждой науке есть некие первоначальные истины, или постулаты. И если учитель не может их объяснить школьнику, то никогда до сути этой науки ребенок не доберется. Учителя, способные объяснить эти первоначальные истины, несомненно, существуют. Благодаря им вырастают новые поколения ученых.
Один школьный урок я запомнил навсегда. Это был урок географии в школе № 415 города Петергофа, и вела его практикантка из Герценовского института. Она рассказывала об эпохе Великих географических открытий. Это было как раз то, что меня страшно интересовало. Всю свою детскую жизнь я занимался «географическими открытиями». Сначала уходил от дома на 5 километров, потом на 10, потом на 30, потом на 40… Все пространство, где я жил, я обошел пешком и все там знаю в мельчайших подробностях. Такая страсть была к путешествиям. В старших классах к изучению местности добавилось изучение исторической и искусствоведческой литературы. Так вот, практикантка рассказывает, и вдруг происходит страшное — раздается звонок! И мы этот звонок воспринимаем как несчастье. Нам хочется слушать — а тут звонок… Вот для чего нужна школа! Мне удалось прочесть всего одну лекцию, которая имела тот же эффект. Я замещал заболевшего коллегу и читал лекцию о творчестве Достоевского на факультете журналистики в Университете. В той аудитории вход был за спиной у студентов, чтобы встать за кафедру, я должен был пройти мимо всех рядов стульев, стоявших справа и слева. Я читаю Достоевского. Прочел. Раздался звонок. Я иду к двери по этому проходу — а все сидят, не двигаются, и царит полное молчание. Это был единственный случай в моей педагогической практике. Я тогда сразу вспомнил тот школьный урок географии…
— Борис Валентинович, давайте вспомним Ваши полярные экспедиции…
— Самое памятное — это зимовка в обсерватории «Дружная» на острове Хейса Земли Франца Иосифа. Я — сначала техник, а затем инженер-аэролог. Научное оборудование в обсерватории было самое допотопное, о нем сейчас стыдно вспоминать. Но была одна абсолютная ценность, которую даже трудно себе представить. Это библиотека. Ее появление связано с одним удивительным историческим фактом. Георгий Седов готовился к покорению Северного полюса. Построили базу, стали завозить оборудование, огромное количество продуктов и… книги! Он собирается покорять полюс — и завозит книги!
Откуда же взялись эти книги? Сразу после революции конфисковали огромную библиотеку баронессы Икскуль, и когда готовилась экспедиция, эту библиотеку отправили на Землю Франца Иосифа. Ничего подобного история культуры не знает. В полярной обсерватории, где я работал, как раз и хранились книги баронессы Икскуль — 4873 книги, среди которых было даже редчайшее прижизненное издание «Путешествия из Петербурга в Москву» Радищева. Потом вся библиотека там погибла, ничего не сохранилось… Но на некоторых, в том числе и на меня, эти книги оказали решающее влияние. Спасибо баронессе. Мы далеко не всегда знаем, как наше дело отзовется, не знала и она, для кого и какую роль сыграет ее библиотека.
«Дама в красном платье» (портрет В. И. Икскуль фон Гильденбанд, И. Репин, 1889 г.) А теперь представьте: полярная ночь, минус 40, да еще и с ветром… Работаешь трое суток беспрерывно, а потом четверо суток отдыхаешь — таков распорядок. Выйти никуда нельзя. Как тут можно не читать? Когда после возвращения из экспедиции я увидел на прилавках книги Бунина и Платонова, я уже был подготовленным читателем. У Бунина меня поразило его восприятие природы — точно такое, как и у меня в детстве. Бунин видит природу с высшей степенью точности. Там важно все. Вот идет крестьянин по лесу — что первым зацвело, береза или ольха? Это важно! Или вот крестьянский участок, весь желтый от сурепки. Красоты необыкновенной. Но это не настоящая красота, потому что раз участок зарос, значит, крестьянин умер…
На зимовке и после нее я понял, что такое наука. В метеорологические центры поступает огромное количество сведений, благодаря которым составляется прогноз погоды. Часто этот прогноз оправдывается, часто — нет. Почему? Потому что все многообразие природы не может уложиться в те теории, которые мы построили. В жизни и природе всегда есть такие точки, которые не может предсказать самая точная теория. Наука — это, вероятно, самое интересное, что создало человечество. Но важно понять: в каждой науке есть предел, дальше которого она двинуться не может.
— Наверное, для биографии очень важно знать, с чего все начинается.
— Это важно не только для биографии личной, но и для биографии Вселенной. Астрофизики говорят, что все началось с Большого Взрыва, о котором мы ничего не знаем, но уже о том, что могло быть через несколько миллисекунд после него, мы можем что-то сказать. Это очень наивная точка зрения. Мне ближе другая. Никто не может знать и никогда не узнает, как началась наша жизнь и как она кончится. Исходя из данных геофизики, я знаю, что есть Земля, которая окружена разными слоями (одеялами). Это атмосфера, стратосфера, озонный слой, ионосфера, и так далее. Все они защищают Землю от жесткого корпускулярного излучения Солнца. Как возникла эта система защиты, в какой последовательности, по существу не знает никто. Но можно вспомнить простой образ: Богоматерь любовно держит в руках младенца, и мы понимаем, как она хочет его защитить. В мире есть постоянные величины. Для одних это Бог-любовь, для физиков — скорость света. Каждый может выбрать то, что ему больше по душе. Это и будет ответ на вопрос, с чего все начинается.
Начало в октябре 2012 г.
Продолжение в январе 2013 г.
Продолжение в апреле 2013 г..
Следующая страница
Николай Харлампиев
Главный редактор
— Борис Валентинович, расскажите, пожалуйста, о своих школьных годах.
— В школе я учился плохо. Мне было скучно. В шестом классе даже получил двойку по математике за год. Летом выучил учебник, ничего в нем не понимая, сдал — и забыл. Зато при сдаче вступительного экзамена на геофизический факультет преподавательница мне сказала: «Вы ведь ничего не знаете по математике…» Я честно ответил: «Совершенно с вами согласен, не знаю ни-че-го…» Тогда Фаина Марковна, так звали преподавательницу, сказала: «Все-таки я вас приму и научу». Через полгода я уже решал дифференциалы, настолько мне было интересно! В каждой науке есть некие первоначальные истины, или постулаты. И если учитель не может их объяснить школьнику, то никогда до сути этой науки ребенок не доберется. Учителя, способные объяснить эти первоначальные истины, несомненно, существуют. Благодаря им вырастают новые поколения ученых.
Один школьный урок я запомнил навсегда. Это был урок географии в школе № 415 города Петергофа, и вела его практикантка из Герценовского института. Она рассказывала об эпохе Великих географических открытий. Это было как раз то, что меня страшно интересовало. Всю свою детскую жизнь я занимался «географическими открытиями». Сначала уходил от дома на 5 километров, потом на 10, потом на 30, потом на 40… Все пространство, где я жил, я обошел пешком и все там знаю в мельчайших подробностях. Такая страсть была к путешествиям. В старших классах к изучению местности добавилось изучение исторической и искусствоведческой литературы. Так вот, практикантка рассказывает, и вдруг происходит страшное — раздается звонок! И мы этот звонок воспринимаем как несчастье. Нам хочется слушать — а тут звонок… Вот для чего нужна школа! Мне удалось прочесть всего одну лекцию, которая имела тот же эффект. Я замещал заболевшего коллегу и читал лекцию о творчестве Достоевского на факультете журналистики в Университете. В той аудитории вход был за спиной у студентов, чтобы встать за кафедру, я должен был пройти мимо всех рядов стульев, стоявших справа и слева. Я читаю Достоевского. Прочел. Раздался звонок. Я иду к двери по этому проходу — а все сидят, не двигаются, и царит полное молчание. Это был единственный случай в моей педагогической практике. Я тогда сразу вспомнил тот школьный урок географии…
— Борис Валентинович, давайте вспомним Ваши полярные экспедиции…
— Самое памятное — это зимовка в обсерватории «Дружная» на острове Хейса Земли Франца Иосифа. Я — сначала техник, а затем инженер-аэролог. Научное оборудование в обсерватории было самое допотопное, о нем сейчас стыдно вспоминать. Но была одна абсолютная ценность, которую даже трудно себе представить. Это библиотека. Ее появление связано с одним удивительным историческим фактом. Георгий Седов готовился к покорению Северного полюса. Построили базу, стали завозить оборудование, огромное количество продуктов и… книги! Он собирается покорять полюс — и завозит книги!
Откуда же взялись эти книги? Сразу после революции конфисковали огромную библиотеку баронессы Икскуль, и когда готовилась экспедиция, эту библиотеку отправили на Землю Франца Иосифа. Ничего подобного история культуры не знает. В полярной обсерватории, где я работал, как раз и хранились книги баронессы Икскуль — 4873 книги, среди которых было даже редчайшее прижизненное издание «Путешествия из Петербурга в Москву» Радищева. Потом вся библиотека там погибла, ничего не сохранилось… Но на некоторых, в том числе и на меня, эти книги оказали решающее влияние. Спасибо баронессе. Мы далеко не всегда знаем, как наше дело отзовется, не знала и она, для кого и какую роль сыграет ее библиотека.
«Дама в красном платье» (портрет В. И. Икскуль фон Гильденбанд, И. Репин, 1889 г.) А теперь представьте: полярная ночь, минус 40, да еще и с ветром… Работаешь трое суток беспрерывно, а потом четверо суток отдыхаешь — таков распорядок. Выйти никуда нельзя. Как тут можно не читать? Когда после возвращения из экспедиции я увидел на прилавках книги Бунина и Платонова, я уже был подготовленным читателем. У Бунина меня поразило его восприятие природы — точно такое, как и у меня в детстве. Бунин видит природу с высшей степенью точности. Там важно все. Вот идет крестьянин по лесу — что первым зацвело, береза или ольха? Это важно! Или вот крестьянский участок, весь желтый от сурепки. Красоты необыкновенной. Но это не настоящая красота, потому что раз участок зарос, значит, крестьянин умер…
На зимовке и после нее я понял, что такое наука. В метеорологические центры поступает огромное количество сведений, благодаря которым составляется прогноз погоды. Часто этот прогноз оправдывается, часто — нет. Почему? Потому что все многообразие природы не может уложиться в те теории, которые мы построили. В жизни и природе всегда есть такие точки, которые не может предсказать самая точная теория. Наука — это, вероятно, самое интересное, что создало человечество. Но важно понять: в каждой науке есть предел, дальше которого она двинуться не может.
— Наверное, для биографии очень важно знать, с чего все начинается.
— Это важно не только для биографии личной, но и для биографии Вселенной. Астрофизики говорят, что все началось с Большого Взрыва, о котором мы ничего не знаем, но уже о том, что могло быть через несколько миллисекунд после него, мы можем что-то сказать. Это очень наивная точка зрения. Мне ближе другая. Никто не может знать и никогда не узнает, как началась наша жизнь и как она кончится. Исходя из данных геофизики, я знаю, что есть Земля, которая окружена разными слоями (одеялами). Это атмосфера, стратосфера, озонный слой, ионосфера, и так далее. Все они защищают Землю от жесткого корпускулярного излучения Солнца. Как возникла эта система защиты, в какой последовательности, по существу не знает никто. Но можно вспомнить простой образ: Богоматерь любовно держит в руках младенца, и мы понимаем, как она хочет его защитить. В мире есть постоянные величины. Для одних это Бог-любовь, для физиков — скорость света. Каждый может выбрать то, что ему больше по душе. Это и будет ответ на вопрос, с чего все начинается.
Начало в октябре 2012 г.
Продолжение в январе 2013 г.
Продолжение в апреле 2013 г..
Следующая страница
Николай Харлампиев
Главный редактор
Беседа с журналом "Костер" октябрь 2013 г. - "Никогда не нужно злиться"
— Борис Валентинович, какие книги Вы читали в детстве? Есть ли среди них такие, которые запомнились на всю жизнь?
— В нашей школьной библиотеке мы книги не выбирали сами, нам их выдавал библиотекарь. Как уж он там определял, кому какая книга нужна — не известно. Но мне всегда доставались очень скучные книги. Помню плакат, который висел в библиотеке: «Нет плохих книг — есть плохие читатели». Наверное, я был плохим читателем. Но вот каким-то чудом ко мне пришла книга Гюго «Отверженные». И стала потрясением. Эта книга повлияла и на биографию, и на миросозерцание — на все. Я прочел ее в 8 классе и больше к ней не возвращался — впечатление было таким сильным. И вот, когда я перечитал эту книгу не так давно, лет шесть назад, у меня так же в финале щипало в горле, как и тогда, в детстве…
Сильное впечатление оставила также книга Дефо о приключениях Робинзона Крузо. Я помню все — до последней картинки. В этой книге я сразу почувствовал великую идею — желание пересоздать несовершенный мир и сделать его таким, чтобы в нем было хорошо жить. И привести в этот мир друга. А знаете, что в русском переводе Пятница совсем не такой, как в английском оригинале? Нашего Пятницу замечательно придумала переводчица.
Еще помню, как мы с братом в читальном зале читали Ильфа и Петрова. Мы все время громко смеялись, а в библиотеке так вести себя нельзя. И к нам то и дело неслышно подходил библиотекарь и делал замечание шепотом. Но не смеяться было невозможно. Сейчас, наверное, ребятам многое будет там не понятно. Например, нас очень веселила фраза «идейный борец за денежные знаки». А теперь это уже не юмор, не ирония, а бытовая философия… Благосостояние обожествляется, происходит подмена, подстановка… Детское сознание в человеке умирает. А детское сознание — это понимание того, что ты живешь в великом таинственном мире. И в основе мира прежде всего — Тайна. А тайна — всегда чудо. И человек всегда поэтому стремится добыть неизвестное.
— «Добыть неизвестное» — это как?
— Это выражалось в особенности биографии нашего послевоенного поколения. Меня, например, всегда интересовала тропинка, по которой я не ходил никогда. Очень хотелось попасть в то место, где никогда не бывал. Это особое состояние — узнать то, что осталось за горизонтом, постичь интересное.
— А Ваши зимовки за Полярным кругом тоже связаны с этим желанием? Возможно, кто-то из наших читателей не знает, что Вы, Борис Валентинович, не только известный филолог, но еще и полярник, у Вас за плечами три арктических зимовки на острове Хейса Земли Франца-Иосифа.
— Я выбрал профессию, впечатлившись красотой Константиновского дворца, где в то время располагался геофизический факультет Ленинградского арктического училища. В этой красоте было обещание Путешествия. И оно сбылось. Я попал на самый северный в мире архипелаг, в самую северную в мире обсерваторию. В биографии каждого человека должен быть «период аскетизма». Когда человек читает, пишет, рисует, размышляет — и больше ничем не занимается. У нас на полярной станции была великолепная библиотека. А пароход с Большой земли приходил только раз в год. Целый год мы были оторваны от мира. Можно было читать столько, сколько хочешь. Я много читал. Прочел, например, всего Томаса Манна. Последний том, кстати, оказался самым интересным.
— А самую первую книгу в своей жизни помните?
— Самая первая, которая запомнилась, это «Курочка-Ряба». Помню яркие картинки и обложку. На обложке Курочка стоит, как человек, а на ее крыле висит корзиночка. И вот я как-то проснулся и вижу — на моей тумбочке у кровати стоит эта самая Курочка с корзинкой. Абсолютно живая. Я закрыл глаза. Снова открыл. Лежит книга, на обложке — Курочка. Но это просто обложка. Что это было — до сих пор не знаю. Все-таки книги — это чудо. Особенно в раннем детстве. А осознанное чтение пришло уже в школе.
— Борис Валентинович, есть ли в Вашей биографии жизненные уроки, которые Вы вынесли из школы?
— В школе я учился исключительно плохо. Помню, нам задали выучить наизусть отрывок из «Мцыри». Я, конечно, этого не сделал. И на уроке, когда учитель открыл журнал, сразу почувствовал — сейчас вызовут меня. И точно, когда услышал свою фамилию, бросил взгляд на открытую книгу. Что-то «сфотографировал». Вышел к доске, и начал читать. Нечто приблизительное, что запомнил по «скорочтению». Декламирую и с ужасом думаю: «А что же я читаю?!» Хохот в классе стоял невероятный. Так я понял, что вранье — дело хлопотное, для него нужна хорошая память. И убедился в этом еще раз, когда попал в нелепую ситуацию. У нас в школе опоздавших не пускали на урок без письменного разрешения директора. И вот я опоздал. Помаялся у двери директора и решил к нему не заходить. Пришел в класс и с порога заявил, что директор разрешил мне приступить к занятиям без всякой там записки. В классе раздался оглушительный хохот. Оказалось, что за последней партой сидел сам директор — он пришел на урок вовремя, в отличие от меня… Так что, дорогие читатели, врать очень плохо и очень опасно.
— В нашей «Аптеке для души» мы даем ребятам советы о том, что стоит прочесть. А есть ли у Вас какой-нибудь совет о том, как нужно жить?
— Рецепт «Аптеки жизни» очень прост. Никогда не нужно злиться. Чтобы злиться, ума не надо. Поэтому осознайте в себе злобу, поймайте ее в себе. Это ведь страшный наркотик, злоба приносит бессознательное удовольствие. Она, как страшный яд, пронизывает весь организм и разрушает его. Лев Толстой писал в своих дневниках, что главная задача человека — созидание, но не внешнего мира, а собственной души. Бог дал тебе чистую душу. Вот и верни ее такой же чистой. Поэтому, дорогие друзья, не надо злиться. Берегите свою душу, содержите ее в чистоте.
Продолжение беседы с Борисом АВЕРИНЫМ читайте в январском номере «Костра»
Продолжение в январе 2013 г.
Продолжение в апреле 2013 г.
в ноябре-декабре 2013 г.
— В нашей школьной библиотеке мы книги не выбирали сами, нам их выдавал библиотекарь. Как уж он там определял, кому какая книга нужна — не известно. Но мне всегда доставались очень скучные книги. Помню плакат, который висел в библиотеке: «Нет плохих книг — есть плохие читатели». Наверное, я был плохим читателем. Но вот каким-то чудом ко мне пришла книга Гюго «Отверженные». И стала потрясением. Эта книга повлияла и на биографию, и на миросозерцание — на все. Я прочел ее в 8 классе и больше к ней не возвращался — впечатление было таким сильным. И вот, когда я перечитал эту книгу не так давно, лет шесть назад, у меня так же в финале щипало в горле, как и тогда, в детстве…
Сильное впечатление оставила также книга Дефо о приключениях Робинзона Крузо. Я помню все — до последней картинки. В этой книге я сразу почувствовал великую идею — желание пересоздать несовершенный мир и сделать его таким, чтобы в нем было хорошо жить. И привести в этот мир друга. А знаете, что в русском переводе Пятница совсем не такой, как в английском оригинале? Нашего Пятницу замечательно придумала переводчица.
Еще помню, как мы с братом в читальном зале читали Ильфа и Петрова. Мы все время громко смеялись, а в библиотеке так вести себя нельзя. И к нам то и дело неслышно подходил библиотекарь и делал замечание шепотом. Но не смеяться было невозможно. Сейчас, наверное, ребятам многое будет там не понятно. Например, нас очень веселила фраза «идейный борец за денежные знаки». А теперь это уже не юмор, не ирония, а бытовая философия… Благосостояние обожествляется, происходит подмена, подстановка… Детское сознание в человеке умирает. А детское сознание — это понимание того, что ты живешь в великом таинственном мире. И в основе мира прежде всего — Тайна. А тайна — всегда чудо. И человек всегда поэтому стремится добыть неизвестное.
— «Добыть неизвестное» — это как?
— Это выражалось в особенности биографии нашего послевоенного поколения. Меня, например, всегда интересовала тропинка, по которой я не ходил никогда. Очень хотелось попасть в то место, где никогда не бывал. Это особое состояние — узнать то, что осталось за горизонтом, постичь интересное.
— А Ваши зимовки за Полярным кругом тоже связаны с этим желанием? Возможно, кто-то из наших читателей не знает, что Вы, Борис Валентинович, не только известный филолог, но еще и полярник, у Вас за плечами три арктических зимовки на острове Хейса Земли Франца-Иосифа.
— Я выбрал профессию, впечатлившись красотой Константиновского дворца, где в то время располагался геофизический факультет Ленинградского арктического училища. В этой красоте было обещание Путешествия. И оно сбылось. Я попал на самый северный в мире архипелаг, в самую северную в мире обсерваторию. В биографии каждого человека должен быть «период аскетизма». Когда человек читает, пишет, рисует, размышляет — и больше ничем не занимается. У нас на полярной станции была великолепная библиотека. А пароход с Большой земли приходил только раз в год. Целый год мы были оторваны от мира. Можно было читать столько, сколько хочешь. Я много читал. Прочел, например, всего Томаса Манна. Последний том, кстати, оказался самым интересным.
— А самую первую книгу в своей жизни помните?
— Самая первая, которая запомнилась, это «Курочка-Ряба». Помню яркие картинки и обложку. На обложке Курочка стоит, как человек, а на ее крыле висит корзиночка. И вот я как-то проснулся и вижу — на моей тумбочке у кровати стоит эта самая Курочка с корзинкой. Абсолютно живая. Я закрыл глаза. Снова открыл. Лежит книга, на обложке — Курочка. Но это просто обложка. Что это было — до сих пор не знаю. Все-таки книги — это чудо. Особенно в раннем детстве. А осознанное чтение пришло уже в школе.
— Борис Валентинович, есть ли в Вашей биографии жизненные уроки, которые Вы вынесли из школы?
— В школе я учился исключительно плохо. Помню, нам задали выучить наизусть отрывок из «Мцыри». Я, конечно, этого не сделал. И на уроке, когда учитель открыл журнал, сразу почувствовал — сейчас вызовут меня. И точно, когда услышал свою фамилию, бросил взгляд на открытую книгу. Что-то «сфотографировал». Вышел к доске, и начал читать. Нечто приблизительное, что запомнил по «скорочтению». Декламирую и с ужасом думаю: «А что же я читаю?!» Хохот в классе стоял невероятный. Так я понял, что вранье — дело хлопотное, для него нужна хорошая память. И убедился в этом еще раз, когда попал в нелепую ситуацию. У нас в школе опоздавших не пускали на урок без письменного разрешения директора. И вот я опоздал. Помаялся у двери директора и решил к нему не заходить. Пришел в класс и с порога заявил, что директор разрешил мне приступить к занятиям без всякой там записки. В классе раздался оглушительный хохот. Оказалось, что за последней партой сидел сам директор — он пришел на урок вовремя, в отличие от меня… Так что, дорогие читатели, врать очень плохо и очень опасно.
— В нашей «Аптеке для души» мы даем ребятам советы о том, что стоит прочесть. А есть ли у Вас какой-нибудь совет о том, как нужно жить?
— Рецепт «Аптеки жизни» очень прост. Никогда не нужно злиться. Чтобы злиться, ума не надо. Поэтому осознайте в себе злобу, поймайте ее в себе. Это ведь страшный наркотик, злоба приносит бессознательное удовольствие. Она, как страшный яд, пронизывает весь организм и разрушает его. Лев Толстой писал в своих дневниках, что главная задача человека — созидание, но не внешнего мира, а собственной души. Бог дал тебе чистую душу. Вот и верни ее такой же чистой. Поэтому, дорогие друзья, не надо злиться. Берегите свою душу, содержите ее в чистоте.
Продолжение беседы с Борисом АВЕРИНЫМ читайте в январском номере «Костра»
Продолжение в январе 2013 г.
Продолжение в апреле 2013 г.
в ноябре-декабре 2013 г.