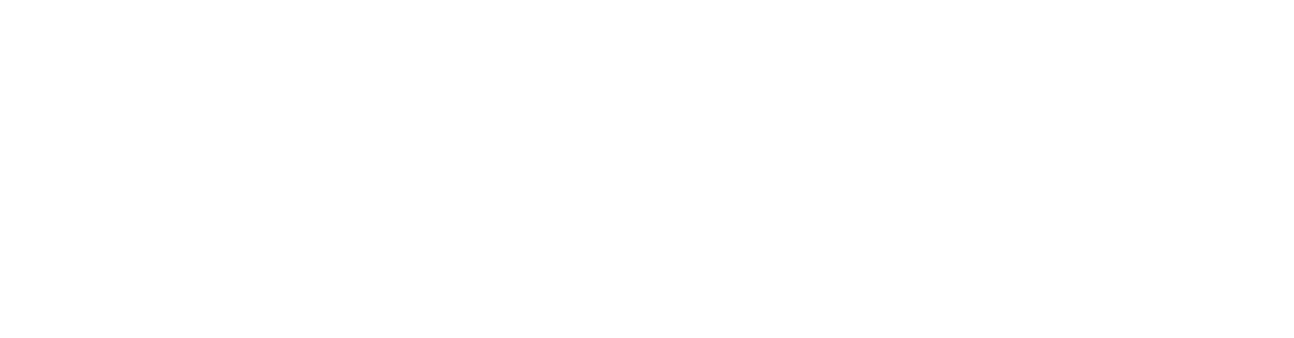Лекции
Цикл из трех лекций «Атлас облаков»
(Новая сцена Александринского театра 2017)
(Новая сцена Александринского театра 2017)
Расшифровки лекций для журнала «Прочтение» – Полина Бояркина.
Лекция первая : «Прогноз по обрезанной карте»
Первая лекция нового курса «Атлас облаков в литературе и в жизни» известного филолога Бориса Аверина прошла 14 февраля. Это совместная идея проекта «Слушай сюда» и Новой сцены Александринского театра. Аверин – гениальный лектор. Его мысли, подкрепленные множеством историй из личного опыта, с одной стороны, будто разбегаются в разные стороны, двигаясь подчас в немыслимых направлениях, а с другой – складываются в единый, завершенный сюжет. Какой бы ни была тема очередной лекции, все они – разговор о важнейших вещах. Журнал «Прочтение» публикует конспект первой из трех лекций курса, посвященной нашему пониманию природы и облакам.
Природа и мировоззрение
Наше представление о природе философы считают предвзятым. Мы не чувствуем жизни природы, и мы с ней вместе не живем. Мы живем отдельно, это прекрасно знают умные люди, такие как, например, Бунин:
В бездонном небе легким белым краем
Встает, сияет облако. Давно
Слежу за ним... Мы мало видим, знаем,
А счастье только знающим дано.
И.А. Бунин. «Вечер»
Нужно провести границу между словом «видеть» и словом «знать». Есть маленький секрет, на который вы не обращали внимания: «мировоззрение», «миросозерцание» – какое бы слово мы не взяли, оно всегда будет связано со зрением. Мы понимаем мир через зрение. Вот он, секрет, все поэты до единого об этом говорят, и никто их не слышит, потому что мы отвыкли заниматься миро-воззрением – то есть смотреть на природу. Знание и видение – это одно и то же. Набоков пишет, что среди русских поэтов бабочек «видит» только Бунин. «Видит» в кавычках – это философский термин. Мы не знаем мира, мы мало знаем, а «счастье только знающим дано». Если я страдаю, философия не поможет. Мы все воспринимаем природу не рефлексируя, не понимая, что это на самом деле главное.
Тютчев писал:
Не то, что мните вы, природа:
Не слепок, не бездушный лик –
В ней есть душа, в ней есть свобода,
В ней есть любовь, в ней есть язык...
<…>
Они не видят и не слышат,
Живут в сем мире, как впотьмах…
Природа обращается к нам с речью, а мы не слышим ее, потому что не хотим считывать смысл – это затруднительно. Получение всяких знаний раздражает. Мы не философы, мы не знаем, что такое мировоззрение, не знаем, что такое миросозерцание, мы живем в этом мире впотьмах, как в чулане. Для нас этот мир закрыт. Вокруг нас будто играет орган, а мы глухонемые. Поэтому и природа нас не слышит.
Наука об облаках
Наука учит нас видеть вещи, а увидев – пытаться запомнить, классифицировать, поставить на место. Потому что наука есть систематизация. Например, облака. Они бывают верхнего яруса: Cirrus – перистые облака, Cirrocumulus – перисто-кучевые облака, Cirrostratus – перисто-слоистые облака; среднего яруса: Altocumulus – высоко-кучевые облака, Altostratus – высоко-слоистые облака; нижнего яруса: Stratocumulus – слоисто-кучевые облака, Stratus – слоистые облака, Nimbostratus – слоисто-дождевые облака; и вертикального развития: Cumulus – кучевые облака (например, кучевые плоские, или «облака хорошей погоды» – Cumulus humilis, вы увидели эти облака – неделю будет хорошая погода, у вас сразу настроение будет бодрым целый день), Cumulonimbus – кучево-дождевые облака.
И вот вы увидели циррусы – перистые, от слова «перышко» (какое хорошее слово!). Но если они нитеобразные, когтевидные – тоненькие и верхушка загибается, – то через двадцать часов будет дождь, и погода испортится надолго, но ведь вы уже приготовились, потому что увидели циррусы филозусы.
Вертикальное и горизонтальное знание
В романе «Лавр» Евгений Водолазкин хорошо сказал: бывает знание по горизонтали и по вертикали. Знание по горизонтали – это средний, низкий, верхний ярус облаков, это горизонталь, и здесь можно увеличивать знания до бесконечности. Это наука в точном смысле слова, которую нам безуспешно преподавали в школе. А нам нужно перейти к знаниям по вертикали.
Религия – это обличение вещей невидимых. Это хорошо изображено у Толстого. Идет мальчик, ему три года, он говорит: «Бабушка, а что такое Бог?» – «Этого никто не знает». – «А где он живет?» А где он живет, она знает: «На небе». Он говорит: «А я не вижу». –«Конечно, потому что он в облачении». Посмотрите на облака в живописи – это удивительно, как художники чувствуют, как они видят. Как Бунин, например, видел бабочку, не говоря уже про Набокова. Вот это и есть знание по вертикали. Итак, Бог живет на небе, а на небе он в облаках, мы его и не видим – он в «облачении».
Итак, горизонтальное знание необходимо, и наше человеческое любопытство правильно занимается физикой, химией и математикой. Мы должны выходить из дома, смотреть на небо, на облака. «Но мы не видим и не слышим», – поэт не ругает нас, он знает это по себе. Поэтому он иногда к нам и обращается.
О государстве и душе
Христианство ненавидели лютой ненавистью. Потому что христианство не признает государства, оно сразу провозгласило: «Богу богово, а кесарю кесарево». Т.В. Петкевич, когда сидела в лагере, сказала: «Плоть ваша, государства, а душу я вам никогда не отдам», – а потом написала об этом. Эта мысль вызывала лютую ненависть как во времена раннего христианства, так и при большевизме. Я живу, чтобы принести пользу государству? Нет. Любовь к государству – римская идея, а христианство это отвергает в мягкой форме. Моя душа принадлежит Богу и мне.
Прогноз по обрезанной карте
Половина философии выросла из синоптики. Мы составляем военные прогнозы, но, когда мы воюем с Германией, она не поставляет сведения для синоптиков. Поэтому я должен давать прогноз по обрезанной карте. Мы же и мира окружающего не знаем. Все наши рассуждения о том, что будет дальше, – это прогноз по обрезанной карте. Мы не знаем контекста, в котором живем, и поэтому всегда ошибаемся.
Для одних это мрак, а для других – свет. Наибольшее количество верующих окончили технические вузы. На физическом факультете множество кафедр, которые «разговаривают» на разных языках и друг друга «не понимают». И нет физики общей. А мы с вами понимаем друг друга, особенно когда оставляем горизонтальное знание и переходим к вертикальному, потому что здесь есть общность между людьми. Горизонтальное знание – наука – нас разделяет, а вертикальное – объединяет, и мы понимаем друг друга. Самое большое количество верующих – среди нобелевских лауреатов и кандидатов наук. Гранин, например, рассказывал про одного эмбриолога, который пришел к выводу, что на четвертом месяце, когда происходит резкий скачок и эмбрион становится на несколько граммов больше – это появляется душа. Он точно в этом убежден. Это разница веры и неверия. Все верят по-разному – и слава Богу. Потому что сказать, что такое Бог, не может никто, потому что Он в облаке, Он «облачен». Но внутри каждого человека живет свой Бог, и это самый главный жизненный опыт, просто человек не задумывается об этом.
Облака в Библии
В «Симфонии», кратком словаре основных понятий Библии, встречается огромное количество «облаков».
Я полагаю радугу Мою в облаке, чтоб она была знамением [вечного] завета между Мною и между землею (Быт. 9:12).
Радуга и облако – знамение вечного завета между Богом и нами, договора. Когда вы видите радугу, вы сразу понимаете, что вот Он появился.
И двинулся Ангел Божий, шедший перед станом Израильтян, и пошел позади них; двинулся и столб облачный от лица их и стал позади них;
и вошел в середину между станом Египетским и между станом Израильтян, и был облаком и мраком для одних и освещал ночь для других, и не сблизились одни с другими во всю ночь (Исход 14:19-20).
Там, в облачном столпе, Бог. Мы говорим, что Он на небе, а Его я не вижу. Для неверующего после смерти – вечная тьма. А если ты веришь, то для тебя наступит свет, вечный свет. На лекциях по научному атеизму нам говорили, что наибольшее количество верующих среди неграмотных, это самая сильная вера, не рассуждающая. Все как сказано, так и есть. А зачем нам дан разум? Чтобы мы не верили. Потому что надо с самого начала объяснить, что было.
И сказал Господь Моисею: вот, Я приду к тебе в густом облаке, чтобы слышал народ, как Я буду говорить с тобой, и поверил тебе навсегда. И Моисей объявил слова народа Господу (Исход 19:9).
Никуда без облака – никуда без покрова. Истина должна быть за покрывалом, отбросишь его – ослепнешь. Истина не бывает явленной, она всегда подается так, чтобы она была под покровом. Так говорили египтяне.
Что есть истина?
«Азмь есмь <…> истина», – говорит Христос (Ин. 14:6). А никто не понимает, что Он говорит. Что значит «Азмь есмь <…> истина»? Потому что Он видел Бога, Он сын Божий. Но когда Он об этом говорит, никто не понимает, о чем разговор. Он-то знает, Он знает будущее. А больше никто. И апостолы разводят руками. «Я есть истина и путь». Но это Он говорит не о себе, не о характере. Но не характер Его не понимают, а учение. И это истина.
Когда Христос говорит, что «они не понимают не меня, а то, что нет государства, а есть человек, у которого душа принадлежит Богу», это трудно понять. Особенно воспитанникам тоталитарных государств. Христос проповедует нечто, что совершенно не соответствует нашему естественному взгляду на мир. Естественный взгляд на мир трактует, например, Маркс – что первично, что вторично. Я материален? Конечно! Но у меня есть нечто нематериальное – душа. И в каждом есть душа. И, если мы это увидим, мир изменится. Но если мы не будем заниматься горизонтальным знанием, то мир для нас не откроется, мы его не увидим.
На третий день, при наступлении утра, были громы и молнии, и густое облако над горой, и трубный звук весьма сильный; и вострепетал весь народ, бывший в стане (Исход 19:16).
Я месяц назад читал позднее интервью Борхеса, в котором он говорит: знаете, почему Христа никто не видит? Потому что у нас другое зрение. Вот тогда: в третьем-четвертом-пятом веке было другое зрение – мистическое. Мистика – это когда видно, что вот Христос идет, вот Он, а мы этого не видим, у нас другое зрение. И как говорил Достоевский, если бы Христос пришел на Дворцовую площадь и начал бы проповедовать, никто бы Его не узнал.
Облако в Библии – метафора покрова, сквозь который мы не видим Бога, потому что Он должен быть сокрыт. Наблюдение за облаками помогает хорошо почувствовать глубину, и необычность мира, и тайну. Те, кто полагает, что они много понимают о мире, пусть отдохнут, потому что в основе мира лежит тайна, к которой кто-то прикасается: Тютчев, или князь Андрей, или Бунин.
Природа и мировоззрение
Наше представление о природе философы считают предвзятым. Мы не чувствуем жизни природы, и мы с ней вместе не живем. Мы живем отдельно, это прекрасно знают умные люди, такие как, например, Бунин:
В бездонном небе легким белым краем
Встает, сияет облако. Давно
Слежу за ним... Мы мало видим, знаем,
А счастье только знающим дано.
И.А. Бунин. «Вечер»
Нужно провести границу между словом «видеть» и словом «знать». Есть маленький секрет, на который вы не обращали внимания: «мировоззрение», «миросозерцание» – какое бы слово мы не взяли, оно всегда будет связано со зрением. Мы понимаем мир через зрение. Вот он, секрет, все поэты до единого об этом говорят, и никто их не слышит, потому что мы отвыкли заниматься миро-воззрением – то есть смотреть на природу. Знание и видение – это одно и то же. Набоков пишет, что среди русских поэтов бабочек «видит» только Бунин. «Видит» в кавычках – это философский термин. Мы не знаем мира, мы мало знаем, а «счастье только знающим дано». Если я страдаю, философия не поможет. Мы все воспринимаем природу не рефлексируя, не понимая, что это на самом деле главное.
Тютчев писал:
Не то, что мните вы, природа:
Не слепок, не бездушный лик –
В ней есть душа, в ней есть свобода,
В ней есть любовь, в ней есть язык...
<…>
Они не видят и не слышат,
Живут в сем мире, как впотьмах…
Природа обращается к нам с речью, а мы не слышим ее, потому что не хотим считывать смысл – это затруднительно. Получение всяких знаний раздражает. Мы не философы, мы не знаем, что такое мировоззрение, не знаем, что такое миросозерцание, мы живем в этом мире впотьмах, как в чулане. Для нас этот мир закрыт. Вокруг нас будто играет орган, а мы глухонемые. Поэтому и природа нас не слышит.
Наука об облаках
Наука учит нас видеть вещи, а увидев – пытаться запомнить, классифицировать, поставить на место. Потому что наука есть систематизация. Например, облака. Они бывают верхнего яруса: Cirrus – перистые облака, Cirrocumulus – перисто-кучевые облака, Cirrostratus – перисто-слоистые облака; среднего яруса: Altocumulus – высоко-кучевые облака, Altostratus – высоко-слоистые облака; нижнего яруса: Stratocumulus – слоисто-кучевые облака, Stratus – слоистые облака, Nimbostratus – слоисто-дождевые облака; и вертикального развития: Cumulus – кучевые облака (например, кучевые плоские, или «облака хорошей погоды» – Cumulus humilis, вы увидели эти облака – неделю будет хорошая погода, у вас сразу настроение будет бодрым целый день), Cumulonimbus – кучево-дождевые облака.
И вот вы увидели циррусы – перистые, от слова «перышко» (какое хорошее слово!). Но если они нитеобразные, когтевидные – тоненькие и верхушка загибается, – то через двадцать часов будет дождь, и погода испортится надолго, но ведь вы уже приготовились, потому что увидели циррусы филозусы.
Вертикальное и горизонтальное знание
В романе «Лавр» Евгений Водолазкин хорошо сказал: бывает знание по горизонтали и по вертикали. Знание по горизонтали – это средний, низкий, верхний ярус облаков, это горизонталь, и здесь можно увеличивать знания до бесконечности. Это наука в точном смысле слова, которую нам безуспешно преподавали в школе. А нам нужно перейти к знаниям по вертикали.
Религия – это обличение вещей невидимых. Это хорошо изображено у Толстого. Идет мальчик, ему три года, он говорит: «Бабушка, а что такое Бог?» – «Этого никто не знает». – «А где он живет?» А где он живет, она знает: «На небе». Он говорит: «А я не вижу». –«Конечно, потому что он в облачении». Посмотрите на облака в живописи – это удивительно, как художники чувствуют, как они видят. Как Бунин, например, видел бабочку, не говоря уже про Набокова. Вот это и есть знание по вертикали. Итак, Бог живет на небе, а на небе он в облаках, мы его и не видим – он в «облачении».
Итак, горизонтальное знание необходимо, и наше человеческое любопытство правильно занимается физикой, химией и математикой. Мы должны выходить из дома, смотреть на небо, на облака. «Но мы не видим и не слышим», – поэт не ругает нас, он знает это по себе. Поэтому он иногда к нам и обращается.
О государстве и душе
Христианство ненавидели лютой ненавистью. Потому что христианство не признает государства, оно сразу провозгласило: «Богу богово, а кесарю кесарево». Т.В. Петкевич, когда сидела в лагере, сказала: «Плоть ваша, государства, а душу я вам никогда не отдам», – а потом написала об этом. Эта мысль вызывала лютую ненависть как во времена раннего христианства, так и при большевизме. Я живу, чтобы принести пользу государству? Нет. Любовь к государству – римская идея, а христианство это отвергает в мягкой форме. Моя душа принадлежит Богу и мне.
Прогноз по обрезанной карте
Половина философии выросла из синоптики. Мы составляем военные прогнозы, но, когда мы воюем с Германией, она не поставляет сведения для синоптиков. Поэтому я должен давать прогноз по обрезанной карте. Мы же и мира окружающего не знаем. Все наши рассуждения о том, что будет дальше, – это прогноз по обрезанной карте. Мы не знаем контекста, в котором живем, и поэтому всегда ошибаемся.
Для одних это мрак, а для других – свет. Наибольшее количество верующих окончили технические вузы. На физическом факультете множество кафедр, которые «разговаривают» на разных языках и друг друга «не понимают». И нет физики общей. А мы с вами понимаем друг друга, особенно когда оставляем горизонтальное знание и переходим к вертикальному, потому что здесь есть общность между людьми. Горизонтальное знание – наука – нас разделяет, а вертикальное – объединяет, и мы понимаем друг друга. Самое большое количество верующих – среди нобелевских лауреатов и кандидатов наук. Гранин, например, рассказывал про одного эмбриолога, который пришел к выводу, что на четвертом месяце, когда происходит резкий скачок и эмбрион становится на несколько граммов больше – это появляется душа. Он точно в этом убежден. Это разница веры и неверия. Все верят по-разному – и слава Богу. Потому что сказать, что такое Бог, не может никто, потому что Он в облаке, Он «облачен». Но внутри каждого человека живет свой Бог, и это самый главный жизненный опыт, просто человек не задумывается об этом.
Облака в Библии
В «Симфонии», кратком словаре основных понятий Библии, встречается огромное количество «облаков».
Я полагаю радугу Мою в облаке, чтоб она была знамением [вечного] завета между Мною и между землею (Быт. 9:12).
Радуга и облако – знамение вечного завета между Богом и нами, договора. Когда вы видите радугу, вы сразу понимаете, что вот Он появился.
И двинулся Ангел Божий, шедший перед станом Израильтян, и пошел позади них; двинулся и столб облачный от лица их и стал позади них;
и вошел в середину между станом Египетским и между станом Израильтян, и был облаком и мраком для одних и освещал ночь для других, и не сблизились одни с другими во всю ночь (Исход 14:19-20).
Там, в облачном столпе, Бог. Мы говорим, что Он на небе, а Его я не вижу. Для неверующего после смерти – вечная тьма. А если ты веришь, то для тебя наступит свет, вечный свет. На лекциях по научному атеизму нам говорили, что наибольшее количество верующих среди неграмотных, это самая сильная вера, не рассуждающая. Все как сказано, так и есть. А зачем нам дан разум? Чтобы мы не верили. Потому что надо с самого начала объяснить, что было.
И сказал Господь Моисею: вот, Я приду к тебе в густом облаке, чтобы слышал народ, как Я буду говорить с тобой, и поверил тебе навсегда. И Моисей объявил слова народа Господу (Исход 19:9).
Никуда без облака – никуда без покрова. Истина должна быть за покрывалом, отбросишь его – ослепнешь. Истина не бывает явленной, она всегда подается так, чтобы она была под покровом. Так говорили египтяне.
Что есть истина?
«Азмь есмь <…> истина», – говорит Христос (Ин. 14:6). А никто не понимает, что Он говорит. Что значит «Азмь есмь <…> истина»? Потому что Он видел Бога, Он сын Божий. Но когда Он об этом говорит, никто не понимает, о чем разговор. Он-то знает, Он знает будущее. А больше никто. И апостолы разводят руками. «Я есть истина и путь». Но это Он говорит не о себе, не о характере. Но не характер Его не понимают, а учение. И это истина.
Когда Христос говорит, что «они не понимают не меня, а то, что нет государства, а есть человек, у которого душа принадлежит Богу», это трудно понять. Особенно воспитанникам тоталитарных государств. Христос проповедует нечто, что совершенно не соответствует нашему естественному взгляду на мир. Естественный взгляд на мир трактует, например, Маркс – что первично, что вторично. Я материален? Конечно! Но у меня есть нечто нематериальное – душа. И в каждом есть душа. И, если мы это увидим, мир изменится. Но если мы не будем заниматься горизонтальным знанием, то мир для нас не откроется, мы его не увидим.
На третий день, при наступлении утра, были громы и молнии, и густое облако над горой, и трубный звук весьма сильный; и вострепетал весь народ, бывший в стане (Исход 19:16).
Я месяц назад читал позднее интервью Борхеса, в котором он говорит: знаете, почему Христа никто не видит? Потому что у нас другое зрение. Вот тогда: в третьем-четвертом-пятом веке было другое зрение – мистическое. Мистика – это когда видно, что вот Христос идет, вот Он, а мы этого не видим, у нас другое зрение. И как говорил Достоевский, если бы Христос пришел на Дворцовую площадь и начал бы проповедовать, никто бы Его не узнал.
Облако в Библии – метафора покрова, сквозь который мы не видим Бога, потому что Он должен быть сокрыт. Наблюдение за облаками помогает хорошо почувствовать глубину, и необычность мира, и тайну. Те, кто полагает, что они много понимают о мире, пусть отдохнут, потому что в основе мира лежит тайна, к которой кто-то прикасается: Тютчев, или князь Андрей, или Бунин.
Лекция вторая : «Предчувствие любви»
Вторая лекция «Облака в поэзии» нового курса Бориса Аверина прошла на Новой сцене Александринского театра 28 февраля. Журнал «Прочтение» публикует конспект лекции о многообразии мира в восприятии людей в древности и о том, что все, накопленное мировой мыслью, никогда не исчезает из человеческого сознания.
Классификация и обобщение
Вы уже выучили, что есть облака нижнего яруса, среднего яруса, верхнего яруса, есть облака вертикального развития — они называются хорошими латинскими словами. Эти слова надо знать, потому что всякая наука начинается с расчленения, вычленения и наименования. Все же видели облака, но названий не знают. Мы не расчленяем, не выделяем, не знаем, как они называются, — это катастрофа, потому что они не существуют для нас. Пока не назовем, не выделим, не классифицируем — не увидим облако. Это основной закон нашего бытия. Пока нет слова, ничего не происходит. Когда появляется слово, что-то возникает. Но вот в чем проблема: всякое слово обобщает. Трава — это обобщение, растительность — обобщение, животный мир!.. Нужно уточнять. Поэтому возникает наука уточнения. Мне не нужны общие понятия, я не хочу пользоваться словом «облачность», я хочу, чтобы мир облаков был для меня конкретикой, чтобы каждое облако я мог назвать. Общие понятия и представления о мире вообще приводят к тому, что мир исчезает. Что мне мир, который говорит, что есть животные, растительность или облачность, — это ничего не значит. Почему мне так важна конкретика?
Язычество и сознание древнего человека
Зачем изучать облака? Это нужно для того, чтобы «витать в облаках», а не вот этой жизнью жить, прагматической. Наша задача — соединить конкретное представление о конкретных облаках с тем, что было раньше, веков тридцать назад, сорок или пятьдесят. До Библии было то, что православная культура называет язычеством. Тогда люди знали что-то такое, что мы навсегда забыли. И все великие поэты, которые пишут об этом, хотят напомнить нам, что мы знали и что мы забыли. Есть первомифы. Легко представить, что вы проснулись, оглядываетесь по сторонам и думаете: где это я, что за комната, кто я? Неизвестно. И надо что-то обозначить. Наш пращур, архаический человек, смотрит и говорит: «Интересно в этом мире, как много всего и непонятно, поэтому я сейчас подумаю, что это такое, и попробую сформулировать».
Заговоры
Какой первый текст в русском языке? «На острове Буяне, на море-океане есть Алатырь-камень». Ничего не понятно. И мы должны это понять. Это заговор. Он таинственный, потому что смысл слов исчез. За прошедшие тридцать-сорок веков мы утратили значение, мы забыли, что это за остров Буян, что за Алатырь-камень. Надо задуматься и понять. Чтобы подойти к этим сложным текстам, возьмем текст, созданный веков двадцать назад. Есть люди, которые занимались этими языками, этими словами и всегда приходили к мифу об облаках, точнее — о солнце, а еще точнее — о грозе.
Афанасьев лет тридцать пытался расшифровать эти Алатыри-камни, эти острова Буяны. Мы читали «Люблю грозу в начале мая…» — мы считаем, что это реалистическая картинка, а она абсолютно не реалистическая. Обратите внимание на последнее четверостишие: вот куда ведет нас поэт, в самую древность.
Двадцатый век я хорошо помню — гадость полнейшая, девятнадцатый вроде ничего, восемнадцатый — сплошное счастье, в семнадцатом что-то скрипит, шестнадцатый — смутно, а что в пятнадцатом было? А в четырнадцатом? Что касается тринадцатого и двенадцатого, я хорошо помню, потому что есть город Суздаль или, например, Владимир — там стоят соборы двенадцатого, тринадцатого века. Ходишь мимо них и вспоминаешь: я же тут был. А дальше трудно, до девятого века России не было. Кто были эти россы, мы не знаем. Были разные государства, люди, они пытались описать окружающую жизнь. Нас не было, но мы их помним. Ничего из того, что знала мировая мысль, никогда не исчезает из человеческого сознания, оно живет там, но живет неосознанно, непознаваемо. Но бывают состояния, когда самые первые слои сознания начинают пробуждаться. Это знает каждый, но не каждый рефлектирует.
Многообразие мира
Того, что пращур мой воспринял в древнем детстве:
— Нет в мире разных душ и времени в нем нет!
И.А. Бунин. «В горах»
Мы сейчас придумали вместе с французами Сартром и Камю, что есть другой и это всегда отрицательно. Да нет другого — любой другой человек — это всегда я. Но чтобы это почувствовать, нужно быть тем самым древним человеком, который увидел, что небо голубое, вода прозрачная, трава зеленая и все это живое. Нет неживого в мире. Сейчас придумали слово «темпоральность». Камень — у него просто темп жизни другой, темпоральность другая. Почему? Потому что во мне живет этот древний пращур с его живостью восприятия, с его ощущением тайны и красоты мира, с наполненностью смыслом всего, что происходит. И с этим невероятным подарком, который есть многообразие мира.
У нас этого нет, это ощущение многообразия мира стерлось, оно пробуждается только в каких-то совершенно необычных состояниях, например в состоянии влюбленности.
Предчувствие любви и союз земли и неба
Владыка весенних гроз, разбиватель мрачных туч, просветитель неба, податель дождей и урожаев, присутствие которого так очевидно для всех в летнюю пору, на зиму как бы совсем скрывается; в период суровых вьюг, снегов и морозов не узнается его творческая сила, и миф представляет его засыпающим непробудным сном или умирающим на все время зимы. Очарованный, заклятый, полоненный враждебными демонами, бог-громовник, вместе со своим победоносным воинством, почиет до весны в облачных горах и замках. По указанию ведаических гимнов, пробужденный весною Индра разрушает своими огненными стрелами семь городов демона зимы и выводит из-за крепких затворов стада небесных коров, несущих в своих сосцах благодатное млеко дождя, или освобождает из заключения облачных дев, поспешающих оросить бесплодную землю живою водою.
А.Н. Афанасьев. «Поэтические воззрения славян на природу»
Это то, что для нас смена времен года.
Есть мышление по прямой, а есть мышление по кругу. Мышление по прямой говорит, что что-то было до: возможно, рай, потом наступило что-то другое, а впереди снова будет, возможно, рай. Скорее всего, человек мыслил по кругу. Весна начинается, начинается первая влюбленность: когда земля с воспоминанием, с предчувствием смотрит на небо, потому что сначала бывает предчувствие любви, а уж потом любовь. Предчувствие любви — это весна, потому что смысл существования — это влюбленность, это брак неба и земли. Небо — это отец, а земля — мать. Небо оплодотворяет землю, и навстречу небу из земли двигаются все родственные силы. Наступает пора произрастания всего — и животных, и растений, — и тянется оно к отцу, а отец освещает жизнью, светом. И возникает этот чудесный брак, который и есть рай. Рай не в начале и не в конце, он вот, и будет продолжаться, и потом наступит тихое умирание, и потом злые силы (какие — мы не знаем), они победят нашего замечательного отца — солнце, они спрячут его в страшные тучи, они начнут громить его громом и молнией, и он вместе со своим святым воинством то ли умрет, то ли заснет до следующей весны, а мы должны ждать и надеяться, пока не произойдет возвращение. А оно произойдет.
Прогресс и возвращение к первоистоку
Много лет Афанасьев размышлял, записывал, изучал фольклор всех времен, и наконец понял как воспринимал мир наш предок, у которого были открыты глаза на мир, который видел мир в мельчайших подробностях.
Когда ты изучаешь облака, ты приобщаешься к той древности, которая есть твоя личная судьба, без которой тебе никуда не деться. Это и есть возвращение к первоистоку. Мы полагаем в наивности своей, что есть прогресс, что мы сделали самолет, пароход, атомную бомбу и компьютер, но компьютерный мир — это мир электронный, не реальный, он создает иллюзию реальности, он искажает этот мир. Этот ирреальный мир закрыл то, что человек должен чувствовать, когда он видит мир в подробностях, в мелочах, не обобщая и не объясняя, что это значит. Древние видели мир так, как мы не видим или видим только в тех редких случаях, о которых и говорит Афанасьев или поэты, они ведь знают то, чего мы не знаем.
Целебная сила слова
О розовой пелене Зори, расстилая которую богиня утра просветляет мир и призывает его к жизни, заговор выражается: «твоя фата крепка, как горюч камень-алатырь»; о самом же алатыре сказано: «под тем камнем сокрыта сила могучая, и силы конца нет». Именем этого камня скрепляется чародейное слово заклинателя: «кто камень-алатырь изгложет (дело — трудное, немыслимое), тот мой заговор превозможет».
А.Н. Афанасьев. «Поэтические воззрения славян на природу»
Лекарь, врач (от слова «врати» — «говорити») произносит заклинание древнейшей формы — и знаете, что происходит? Человек вылечивается. Не всегда. Но очень часто. Чем вылечивается? Словом. Библия говорит о том, что Бог вещает из облака, потому что истина нам неведома, она сокрыта и должна быть сокрыта.
Как от современного научного понятия прийти к тому, что есть истина? А истина есть поэтические воззрения славян на природу. Наше древнее представление живет всегда в нас. Это главное действо — соединение земли и неба, с огромным драматическим содержанием, которое всем известно. Все его чувствуют, но не смотрят.
Один мой доктор говорил, что врач лечит словом, лекарства — это потом. Лекарства не повредят, хотя и могут. Болезнь — это серьезно, но не надо говорить, что пришел конец, предел, заказывай гроб. Здесь нельзя ничего предвидеть, нужно обсудить проблему. С больным нужно поговорить о его болезни всерьез, попытаться найти причину, основу, попытаться произнести нужные слова, заговоры. Заговаривать надо болезнь. И умные врачи заговаривают.
Поэты-моралисты
Иногда поэты могут быть моралистами, и облако может им понадобиться как некий очень сложный образ, через который можно передать мысль, недоступную для передачи в понятиях.
Из тонкой влаги и паров
Исшед невидимо, сгущенно,
Помалу, тихо вознесенно
Лучом над высотой холмов,
Отливом света осветяся,
По бездне голубой носяся,
Гордится облако собой,
Блистая солнца красотой.
Г.Р. Державин. «Облако»
Облако гордится собой, но оно будет таким красивым, только если будет солнце, солнце способно поглощать и отражать облако, и тогда оно становится бесконечно красивым. И человек так. Он гордится собой, но он освещается светом разума, или божьим светом, он ощущает в себе это особое начало.
Закатные люблю я облака: над ровными далекими лугами они висят гроздистыми венками, и даль горит, и молятся луга. Я внемлю им. Душа моя строга, овеяна безвестными веками: с кудрявыми багряными богами я рядом плыл в те вольные века.
В. В. Набоков. «Облака»
Это и есть древнее воспоминание — постоянное взаимодействие земли и неба, оно не прекращается ни на одну минуту. Иногда, когда побываешь в местах, где начиналась культура, действительно вдруг ощущаешь веяние веков как реальность, не как историю.
Классификация и обобщение
Вы уже выучили, что есть облака нижнего яруса, среднего яруса, верхнего яруса, есть облака вертикального развития — они называются хорошими латинскими словами. Эти слова надо знать, потому что всякая наука начинается с расчленения, вычленения и наименования. Все же видели облака, но названий не знают. Мы не расчленяем, не выделяем, не знаем, как они называются, — это катастрофа, потому что они не существуют для нас. Пока не назовем, не выделим, не классифицируем — не увидим облако. Это основной закон нашего бытия. Пока нет слова, ничего не происходит. Когда появляется слово, что-то возникает. Но вот в чем проблема: всякое слово обобщает. Трава — это обобщение, растительность — обобщение, животный мир!.. Нужно уточнять. Поэтому возникает наука уточнения. Мне не нужны общие понятия, я не хочу пользоваться словом «облачность», я хочу, чтобы мир облаков был для меня конкретикой, чтобы каждое облако я мог назвать. Общие понятия и представления о мире вообще приводят к тому, что мир исчезает. Что мне мир, который говорит, что есть животные, растительность или облачность, — это ничего не значит. Почему мне так важна конкретика?
Язычество и сознание древнего человека
Зачем изучать облака? Это нужно для того, чтобы «витать в облаках», а не вот этой жизнью жить, прагматической. Наша задача — соединить конкретное представление о конкретных облаках с тем, что было раньше, веков тридцать назад, сорок или пятьдесят. До Библии было то, что православная культура называет язычеством. Тогда люди знали что-то такое, что мы навсегда забыли. И все великие поэты, которые пишут об этом, хотят напомнить нам, что мы знали и что мы забыли. Есть первомифы. Легко представить, что вы проснулись, оглядываетесь по сторонам и думаете: где это я, что за комната, кто я? Неизвестно. И надо что-то обозначить. Наш пращур, архаический человек, смотрит и говорит: «Интересно в этом мире, как много всего и непонятно, поэтому я сейчас подумаю, что это такое, и попробую сформулировать».
Заговоры
Какой первый текст в русском языке? «На острове Буяне, на море-океане есть Алатырь-камень». Ничего не понятно. И мы должны это понять. Это заговор. Он таинственный, потому что смысл слов исчез. За прошедшие тридцать-сорок веков мы утратили значение, мы забыли, что это за остров Буян, что за Алатырь-камень. Надо задуматься и понять. Чтобы подойти к этим сложным текстам, возьмем текст, созданный веков двадцать назад. Есть люди, которые занимались этими языками, этими словами и всегда приходили к мифу об облаках, точнее — о солнце, а еще точнее — о грозе.
Афанасьев лет тридцать пытался расшифровать эти Алатыри-камни, эти острова Буяны. Мы читали «Люблю грозу в начале мая…» — мы считаем, что это реалистическая картинка, а она абсолютно не реалистическая. Обратите внимание на последнее четверостишие: вот куда ведет нас поэт, в самую древность.
Двадцатый век я хорошо помню — гадость полнейшая, девятнадцатый вроде ничего, восемнадцатый — сплошное счастье, в семнадцатом что-то скрипит, шестнадцатый — смутно, а что в пятнадцатом было? А в четырнадцатом? Что касается тринадцатого и двенадцатого, я хорошо помню, потому что есть город Суздаль или, например, Владимир — там стоят соборы двенадцатого, тринадцатого века. Ходишь мимо них и вспоминаешь: я же тут был. А дальше трудно, до девятого века России не было. Кто были эти россы, мы не знаем. Были разные государства, люди, они пытались описать окружающую жизнь. Нас не было, но мы их помним. Ничего из того, что знала мировая мысль, никогда не исчезает из человеческого сознания, оно живет там, но живет неосознанно, непознаваемо. Но бывают состояния, когда самые первые слои сознания начинают пробуждаться. Это знает каждый, но не каждый рефлектирует.
Многообразие мира
Того, что пращур мой воспринял в древнем детстве:
— Нет в мире разных душ и времени в нем нет!
И.А. Бунин. «В горах»
Мы сейчас придумали вместе с французами Сартром и Камю, что есть другой и это всегда отрицательно. Да нет другого — любой другой человек — это всегда я. Но чтобы это почувствовать, нужно быть тем самым древним человеком, который увидел, что небо голубое, вода прозрачная, трава зеленая и все это живое. Нет неживого в мире. Сейчас придумали слово «темпоральность». Камень — у него просто темп жизни другой, темпоральность другая. Почему? Потому что во мне живет этот древний пращур с его живостью восприятия, с его ощущением тайны и красоты мира, с наполненностью смыслом всего, что происходит. И с этим невероятным подарком, который есть многообразие мира.
У нас этого нет, это ощущение многообразия мира стерлось, оно пробуждается только в каких-то совершенно необычных состояниях, например в состоянии влюбленности.
Предчувствие любви и союз земли и неба
Владыка весенних гроз, разбиватель мрачных туч, просветитель неба, податель дождей и урожаев, присутствие которого так очевидно для всех в летнюю пору, на зиму как бы совсем скрывается; в период суровых вьюг, снегов и морозов не узнается его творческая сила, и миф представляет его засыпающим непробудным сном или умирающим на все время зимы. Очарованный, заклятый, полоненный враждебными демонами, бог-громовник, вместе со своим победоносным воинством, почиет до весны в облачных горах и замках. По указанию ведаических гимнов, пробужденный весною Индра разрушает своими огненными стрелами семь городов демона зимы и выводит из-за крепких затворов стада небесных коров, несущих в своих сосцах благодатное млеко дождя, или освобождает из заключения облачных дев, поспешающих оросить бесплодную землю живою водою.
А.Н. Афанасьев. «Поэтические воззрения славян на природу»
Это то, что для нас смена времен года.
Есть мышление по прямой, а есть мышление по кругу. Мышление по прямой говорит, что что-то было до: возможно, рай, потом наступило что-то другое, а впереди снова будет, возможно, рай. Скорее всего, человек мыслил по кругу. Весна начинается, начинается первая влюбленность: когда земля с воспоминанием, с предчувствием смотрит на небо, потому что сначала бывает предчувствие любви, а уж потом любовь. Предчувствие любви — это весна, потому что смысл существования — это влюбленность, это брак неба и земли. Небо — это отец, а земля — мать. Небо оплодотворяет землю, и навстречу небу из земли двигаются все родственные силы. Наступает пора произрастания всего — и животных, и растений, — и тянется оно к отцу, а отец освещает жизнью, светом. И возникает этот чудесный брак, который и есть рай. Рай не в начале и не в конце, он вот, и будет продолжаться, и потом наступит тихое умирание, и потом злые силы (какие — мы не знаем), они победят нашего замечательного отца — солнце, они спрячут его в страшные тучи, они начнут громить его громом и молнией, и он вместе со своим святым воинством то ли умрет, то ли заснет до следующей весны, а мы должны ждать и надеяться, пока не произойдет возвращение. А оно произойдет.
Прогресс и возвращение к первоистоку
Много лет Афанасьев размышлял, записывал, изучал фольклор всех времен, и наконец понял как воспринимал мир наш предок, у которого были открыты глаза на мир, который видел мир в мельчайших подробностях.
Когда ты изучаешь облака, ты приобщаешься к той древности, которая есть твоя личная судьба, без которой тебе никуда не деться. Это и есть возвращение к первоистоку. Мы полагаем в наивности своей, что есть прогресс, что мы сделали самолет, пароход, атомную бомбу и компьютер, но компьютерный мир — это мир электронный, не реальный, он создает иллюзию реальности, он искажает этот мир. Этот ирреальный мир закрыл то, что человек должен чувствовать, когда он видит мир в подробностях, в мелочах, не обобщая и не объясняя, что это значит. Древние видели мир так, как мы не видим или видим только в тех редких случаях, о которых и говорит Афанасьев или поэты, они ведь знают то, чего мы не знаем.
Целебная сила слова
О розовой пелене Зори, расстилая которую богиня утра просветляет мир и призывает его к жизни, заговор выражается: «твоя фата крепка, как горюч камень-алатырь»; о самом же алатыре сказано: «под тем камнем сокрыта сила могучая, и силы конца нет». Именем этого камня скрепляется чародейное слово заклинателя: «кто камень-алатырь изгложет (дело — трудное, немыслимое), тот мой заговор превозможет».
А.Н. Афанасьев. «Поэтические воззрения славян на природу»
Лекарь, врач (от слова «врати» — «говорити») произносит заклинание древнейшей формы — и знаете, что происходит? Человек вылечивается. Не всегда. Но очень часто. Чем вылечивается? Словом. Библия говорит о том, что Бог вещает из облака, потому что истина нам неведома, она сокрыта и должна быть сокрыта.
Как от современного научного понятия прийти к тому, что есть истина? А истина есть поэтические воззрения славян на природу. Наше древнее представление живет всегда в нас. Это главное действо — соединение земли и неба, с огромным драматическим содержанием, которое всем известно. Все его чувствуют, но не смотрят.
Один мой доктор говорил, что врач лечит словом, лекарства — это потом. Лекарства не повредят, хотя и могут. Болезнь — это серьезно, но не надо говорить, что пришел конец, предел, заказывай гроб. Здесь нельзя ничего предвидеть, нужно обсудить проблему. С больным нужно поговорить о его болезни всерьез, попытаться найти причину, основу, попытаться произнести нужные слова, заговоры. Заговаривать надо болезнь. И умные врачи заговаривают.
Поэты-моралисты
Иногда поэты могут быть моралистами, и облако может им понадобиться как некий очень сложный образ, через который можно передать мысль, недоступную для передачи в понятиях.
Из тонкой влаги и паров
Исшед невидимо, сгущенно,
Помалу, тихо вознесенно
Лучом над высотой холмов,
Отливом света осветяся,
По бездне голубой носяся,
Гордится облако собой,
Блистая солнца красотой.
Г.Р. Державин. «Облако»
Облако гордится собой, но оно будет таким красивым, только если будет солнце, солнце способно поглощать и отражать облако, и тогда оно становится бесконечно красивым. И человек так. Он гордится собой, но он освещается светом разума, или божьим светом, он ощущает в себе это особое начало.
Закатные люблю я облака: над ровными далекими лугами они висят гроздистыми венками, и даль горит, и молятся луга. Я внемлю им. Душа моя строга, овеяна безвестными веками: с кудрявыми багряными богами я рядом плыл в те вольные века.
В. В. Набоков. «Облака»
Это и есть древнее воспоминание — постоянное взаимодействие земли и неба, оно не прекращается ни на одну минуту. Иногда, когда побываешь в местах, где начиналась культура, действительно вдруг ощущаешь веяние веков как реальность, не как историю.
Лекция третья: «Игра, принятая за истину»
Курс Бориса Аверина «Облака в поэзии и прозе» завершился 10 марта на Новой сцене Александринского театра. «Прочтение» публикует конспект последней лекции, в которой приведены описания грозы и неба в произведениях Толстого, Чехова и Гиппиус и толкования цитат, в том числе с философской точки зрения.
«Они не видят и не слышат...»
Нам нужно противопоставить два текста:
Люблю грозу в начале мая...
Ф.И. Тютчев. «Весенняя гроза»
Ничего подобного мировая поэзия не знала, это красота. Но дальше, как мы знаем, идет странный текст о ветреной Гебе. И ни один учитель вам не объяснит, что имеется в виду, кроме Афанасьева: вот это наше древнее восприятие того, что происходит на небе. А дело в том, что на небе постоянно происходят сюжеты, происходят события, есть яркие.
Второй текст ужасный:
Они не видят и не слышат,
Живут в сем мире, как впотьмах...
Ф.И. Тютчев. «Не то, что мните вы, природа...»
Это про нас. Вот если первое стихотворение — про древних, которые так воспринимали мир (ну и мы немножко), то вот это — о современности.
Что значит: «Живут в сем мире, как впотьмах»? Иду я по Петергофскому водоводу, красивое место: слева водовод, справа еловый лес, и это происходит весной. Слева над каналом поет соловей, справа над лесом поет кукушка — надо знать полый звук кукушки — это же восторг! А при этом скворцы, жаворонки, щеглы — все их трели сливаются в один сплошной весенний шум — тот, который описывает Некрасов (уж он в этом деле понимает больше, чем мы с вами):
Мать-природа, иду к тебе снова
Со всегдашним желаньем моим —
Заглуши эту музыку злобы!
Чтоб душа ощутила покой
И прозревшее око могло бы
Насладиться твоей красотой.
Н.А. Некрасов. «Надрывается сердце от муки...»
Иду я по каналу, а впереди машина, а двери открыты, и из дверей несется огромное количество децибел — то ли джаз, то ли рок. Но очень строгий голос у певца, он что-то мне выговаривает. И вот я думаю, ну надо же, ни кукушка, никто, ни скворец ему не нужен. Он включил эту штуковину на двадцать децибел и слушает. Он не видит и не слышит. Мы не будем осуждать его сильно, мы все такие. Мы не видим и не слышим, и солнце у нас не дышит, и волна морская не говорит, и это есть то, что мы утратили за время развития, с момента, когда ветреная Геба кормила Зевесова орла, и по сей день. Это ушло. Такие дикие люди, которые обращают внимание на то, что не надо включать джаз, когда у тебя поет соловей, ты соловья послушай; соловей, между прочим, поет только в мае — начале июня, а кукушка тоже недолго — но какой это звук! — а скворец?
Древний пращур и Медный всадник
Я говорю себе, почуяв темный след
Того, что пращур мой воспринял в древнем детстве...
И.А. Бунин. «В горах»
Я, оказывается, слышу в себе пращура, но связи мои с пращуром прекратились, они не вытаскиваются на поверхность, но это они есть самое живое, что находится в моем сознании. И вот этот пращур — это мое миросозерцание, которое превратилось в инстинкт. Хрусталик сокращается и увеличивается инстинктивно, я же за ним не слежу; так же и восприятие мира — оно существует инстинктивно, тысячелетиями.
— Нет в мире разных душ и времени в нем нет!
И.А. Бунин. «В горах»
Что вы придумываете, какие эпохи вы сочиняете? Да как была в облаках борьба темных и светлых сил, как бог-громовик спасал нас от змеи... Медный всадник — это кто? Это громовик! Он наступил на змею. А камень как называется? Гром-камень! Потому что этот камень расколот ударом молнии. А раз расколот ударом молнии, значит, это то, что спасет город. И дважды спасало. Француз не пошел, хотя мог взять запросто. С немцами сложнее. Они и сами не хотели идти. Но Медный всадник охранял на своем гром-камне. Это то, что составляет не просто основу бытия, но основу истории. И то, что спасает этот город. Конечно, все это знали русские прозаики.
Переложим Тютчева на Толстого
До ближайшей деревни оставалось еще верст десять, а большая темно-лиловая туча, взявшаяся Бог знает откуда, без малейшего ветра, но быстро подвигалась к нам.
Л.Н. Толстой. «Отрочество». Глава II. «Гроза»
Это в нашей науке называется — глаз бури. Это когда центр циклона, вокруг бушуют вихри, а у нас ничего нет, тихо и спокойно.
Солнце, еще не скрытое облаками, ярко освещает ее мрачную фигуру и серые полосы, которые от нее идут до самого горизонта. Изредка вдалеке вспыхивает молния и слышится слабый гул, постепенно усиливающийся, приближающийся и переходящий в прерывистые раскаты, обнимающие весь небосклон. Василий приподнимается с козел и поднимает верх брички; кучера надевают армяки и при каждом ударе грома снимают шапки и крестятся; лошади настораживают уши, раздувают ноздри, как будто принюхиваясь к свежему воздуху, которым пахнет от приближающейся тучи, и бричка скорее катит по пыльной дороге. Мне становится жутко, и я чувствую, как кровь быстрее обращается в моих жилах. Но вот передовые облака уже начинают закрывать солнце; вот оно выглянуло в последний раз, осветило страшно-мрачную сторону горизонта и скрылось. Вся окрестность вдруг изменяется и принимает мрачный характер. Вот задрожала осиновая роща; листья становятся какого-то бело-мутного цвета, ярко выдающегося на лиловом фоне тучи, шумят и вертятся; макушки больших берез начинают раскачиваться, и пучки сухой травы летят через дорогу. Стрижи и белогрудые ласточки, как будто с намерением остановить нас, реют вокруг брички и пролетают под самой грудью лошадей; галки с растрепанными крыльями как-то боком летают по ветру; края кожаного фартука, которым мы застегнулись, начинают подниматься, пропускать к нам порывы влажного ветра и, размахиваясь, биться о кузов брички. Молния вспыхивает как будто в самой бричке, ослепляет зрение и на одно мгновение освещает серое сукно, басон и прижавшуюся к углу фигуру Володи. В ту же секунду над самой головой раздается величественный гул, который, как будто поднимаясь все выше и выше, шире и шире, по огромной спиральной линии, постепенно усиливается и переходит в оглушительный треск, невольно заставляющий трепетать и сдерживать дыхание. Гнев Божий! как много поэзии в этой простонародной мысли!
Л.Н. Толстой. «Отрочество». Глава II. «Гроза»
Гроза соотносится с гневом Божьим. С одной стороны, я должен ее увидеть, а с другой стороны, это гнев Божий — мы это понимаем, как бы мы ни были хорошо образованы и ни осознавали, что это электричество.
Тревожные чувства тоски и страха увеличивались во мне вместе с усилением грозы, но когда пришла величественная минута безмолвия, обыкновенно предшествующая разражению грозы, чувства эти дошли до такой степени, что, продолжись это состояние еще четверть часа, я уверен, что умер бы от волнения. <...> Но только что мы трогаемся, ослепительная молния, мгновенно наполняя огненным светом всю лощину, заставляет лошадей остановиться и, без малейшего промежутка, сопровождается таким оглушительным треском грома, что, кажется, весь свод небес рушится над нами. <...>
Черная туча так же грозно застилает противоположную сторону небосклона, но я уже не боюсь ее. Я испытываю невыразимо отрадное чувство надежды в жизни, быстро заменяющее во мне тяжелое чувство страха. Душа моя улыбается так же, как и освеженная повеселевшая природа. <...> Со всех сторон вьются с веселой песнью и быстро падают хохлатые жаворонки; в мокрых кустах слышно хлопотливое движение маленьких птичек, и из середины рощи ясно долетают звуки кукушки. Так обаятелен этот чудный запах леса после весенней грозы, запах березы, фиалки, прелого листа, сморчков, черемухи...
Л.Н. Толстой. «Отрочество». Глава II. «Гроза»
Абсолютно обостренное чувство бытия: я вижу, слышу, знаю. Обоняние, зрение, осязание — все здесь есть. И вот это и есть способность воспринимать мир. Мир, о котором напоминает мне гроза. Нужно пережить грозу, этот ужас. И тогда мы вернемся к тому состоянию, которое только и есть истинное.
Фантазия и реализм. А.П. Чехов
Чехов так чувствовал природу, как мало кто. Это результат его поездки на Сахалин. Надо что-то сделать в жизни, чтобы все рассказы писать, что ли. Вот он и едет на Сахалин. Это чудовищный замысел, это надо проехать столько тысяч верст. И полторы тысячи верст на лошадях. По бездорожью. Холод. Как только не измучился Чехов, учитывая, что он очень болен. Он врач, но себе он диагноз поставить не может. У него чахотка абсолютно очевидно уже в девятнадцать лет. Он едет. Холод, ужас, кошмар. Сибирь. И вдруг он начинает что-то понимать в жизни. Он ночует в крестьянской избе и чувствует: боже, какие это люди. К ним пришла женщина из города и говорит, что у нее ребенок и негде оставить — можно оставить у них, а потом приехать за ним? Маленький ребенок. Они говорят: конечно. Проходит год, они несказанно любят этого ребенка и больше всего в жизни боятся, что приедет мать и отнимет у них его. И Чехов смотрит на этих людей и думает: «Боже мой! Это же надо! Это же чужой ребенок, и как же они его любят!». И при этом он смотрит на комнату, на стенках висят вырезки из дурных журналов. Какие-то генералы. Нет здесь художественной культуры, нет никакой культуры. Здесь даже приличной иконы-то нет. И при этом какое огромное уважение испытывает он к этим людям.
И вот попадает он на Сахалин. Читать об этом страшно: до сих пор волосы на голове встают. Уж мы начитались про Архипелаг ГУЛАГ, достаточно. И возвращается он обратно, а описать все, что видел, он не может. А на судне солдаты возвращаются оттуда, они когда-то там были охранниками, что ли. Среди них Гусев, у которого последняя стадия туберкулеза, который должен умереть то ли сегодня, то ли завтра. Умирает он завтра. Вы знаете, как хоронят в море? Завязывают в парусиновый мешок, в мешок-колосник. И выбрасывают. Священник читает молитву, и эта парусина вместе с телом падает в воду и идет на дно.
Он быстро идет ко дну. Дойдет ли? До дна, говорят, четыре версты. Пройдя сажен восемь-десять, он начинает идти тише и тише, мерно покачивается, точно раздумывает, и, увлекаемый течением, уж несется в сторону быстрее, чем вниз. Но вот встречает он на пути стаю рыбок, которых называют лоцманами. Увидев темное тело, рыбки останавливаются, как вкопанные, и вдруг все разом поворачивают назад и исчезают. Меньше чем через минуту они быстро, как стрелы, опять налетают на Гусева и начинают зигзагами пронизывать вокруг него воду... После этого показывается другое темное тело. Это акула. Она важно и нехотя, точно не замечая Гусева, подплывает под него, и он опускается к ней на спину, затем она поворачивается вверх брюхом, нежится в теплой, прозрачной воде и лениво открывает пасть с двумя рядами зубов. Лоцмана в восторге; они остановились и смотрят, что будет дальше. Поигравши телом, акула нехотя подставляет под него пасть, осторожно касается зубами, и парусина разрывается во всю длину тела, от головы до ног; один колосник выпадает и, испугавши лоцманов, ударивши акулу по боку, быстро идет ко дну.
А.П. Чехов «Гусев»
Это нельзя видеть, это можно только вообразить. Это фантазия. Это чистое воображение, здесь нет ни грамма реализма. А реализм начнется, когда вдруг из этого моря, куда мы опустились вместе с автором, который рассказывает нам что-то фантастическое, мы поднимаем голову к небу.
А наверху в это время, в той стороне, где заходит солнце, скучиваются облака; одно облако похоже на триумфальную арку, другое на льва, третье на ножницы... Из-за облаков выходит широкий зеленый луч и протягивается до самой средины неба; немного погодя рядом с этим ложится фиолетовый, рядом с ним золотой, потом розовый... Небо становится нежно-сиреневым. Глядя на это великолепное, очаровательное небо, океан сначала хмурится, но скоро сам приобретает цвета ласковые, радостные, страстные, какие на человеческом языке и назвать трудно.
А.П. Чехов «Гусев»
Это ощущение абсолютной тайны. Здесь нет слов, но есть восприятие абсолютной красоты, которая не выражается в языке.
Небо — учитель. З. Гиппиус
Произведение, которое объясняет все, — это книга Зинаиды Гиппиус «Небесные краски». Она знает, что такое небо.
Облака — мысли неба. Так и по человеческому лицу часто проходят тени мыслей, и лицо меняется. Мне кажется, что я иногда умею читать мысли людей — и почти всегда умею читать мысли неба. И как изменяются черты человека, — изменяются и черты небесного лица: солнце сегодня другое, чем было вчера, и уже никогда не будет сегодняшним. И луны я не видал одинаковой. О звездах и говорить нечего. На солнце редко кто смотрит — да ведь и прямо в глаза человеку мы очень редко смотрим.
Кончая мою жизнь, я не знаю, поймут ли меня, но в молодости я был наивен и думал, что всем людям свойственно столько же смотреть вверх, сколько вниз.
Но, однако, прежде чем небо меня покорило безвозвратно, случилось вот что: когда я в первый раз открыл, что люди живут помимо неба, не обращая на него внимания, и живут просто и даже недурно — я глубоко усомнился в себе. А если я не прав? Если все это я только себе выдумал, а небо — обыкновенный потолок, которому до нас нет дела? Отчего бы и мне не жить попросту, как все, глядя себе под ноги? Признаться, в ту пору жизни вечное вмешательство неба в мои дела стало мне просто стеснительно, утомило и рассердило меня. И вот я решил быть один, делать без свидетелей все, что мне хотелось, сам, без указок, без морали, а жить попросту, совершенно как все. Я решил забыть о небе навсегда, потому что ведь иначе от этого свидетеля и учителя нельзя было уйти.
З. Гиппиус. «Небесные слова»
Вся философия включает корень видения: умозрение, мировоззрение, самое главное слово — прозрение. Увидеть надо; вы хотите сказать — подумать, нет — увидеть. Подумать каждый может. Поэтому, когда наши великие философы говорят: «Познай самого себя», это они хотят, чтобы я ушел от мира, от неба, от красок земных и заглянул бы в свою душу. Ничего плохого в этом нет, но не это главное. Прозрение — это не «познай самого себя», а — увидь мир, который тебя окружает. Если ты увидишь, тогда придет к тебе то самое откровение, которое знает фольклор, знает Библия и знают великие писатели. И мы этого не читаем. Эти места мы пропускаем. Заставь школьника читать описание пейзажа — не будет.
Молния, обнажающая мир. В.В. Набоков
Когда в детстве Андрею Белому объясняли, что гроза — это электричество, он говорил: гроза — это Зевс, Зевс, который складывает молнии.
Но иногда, когда нальется
грозою небо, иногда
земля притихнет вдруг, сожмется,
как бы от тайного стыда.
И вот — как прежде, неземная,
не наша, пролетаешь ты,
прорывы синие являя
непостижимой наготы.
И снова мир, как много сотен
глухих веков тому назад,
и неустойчив, и неплотен,
и Божьим пламенем объят.
В.В. Набоков «Электричество»
Земля сжимается, как будто от какого-то тайного стыда. Молния — она не наша, не земная, божественная. Мир обнажился в своей исконной сущности. Молния не электрического происхождения — это Божье пламя. Это тот язык, которым говорит и Набоков, а потом через сто веков мы будем рассуждать, откуда происходит электричество. Как же оно происходит?
Игра, принятая за истину
В 1595 году великий Меркатор, когда пытался нарисовать атлас земного шара, столкнулся с проблемой: земной шар круглый, а атлас можно сделать только на плоскости. И если с параллелями все хорошо, то меридианы не укладываются в квадраты. Меркатор уложил. Так вот, нужно перенести реальный мир на вот эту нереальную карту, атлас. В 1805 году был составлен первый атлас облаков. Нам очень хочется подвести все под какую-то идеологию. Все теории замутили нам голову, но надо вернуться к первоначальному. Мы знаем, как все устроено, но ничему это не помогает. Это как замечательная игра, головоломка, за которой ничего не стоит, но мы временами считаем, что вот это и есть истина, а не вот та гроза, когда земля будто бы съежилась от какой-то тайной вины. Изображение неизображаемого. Никто не способен изобразить, как земля съеживается.
Пока я не почувствую мифологию у себя в сознании, изучать мне нечего. Я должен однажды почувствовать: вот это мне близко, это понятно. Вот это окончательно забылось человечеством под влиянием исключительно точных наук, которые сами по себе большая радость, потому что — что может быть лучше, когда человек что-то придумывает эдакое развеселое, электричество. Эти открытия немножко закрывают мир. Современное человечество забывает мифопоэтическое отношение к миру. Только выбросите эту поэзию и миф, жизнь становится плоской и неинтересной. Совершенно неинтересной. Скука смертная — жить в таком мире, где ничего не происходит. А все время что-нибудь происходит, особенно если взглянуть на небо, да еще знать названия облаков, да еще знать, что такое глаз бури, да взглянуть на эти облака глазом летчика или командира корабля, который кричит: «Снять паруса!», потому что глаз бури — тихо. Вот где крылась истина, и эта истина никуда никогда не денется, она лишь отдаляется. Можно сказать, что в мире господствует борьба классов, или борьба противоположностей — Гегель. Но ни Гегель, ни Кант мне не помогают, я уж не говорю про Маркса. А вот эти поэтические воззрения не просто помогают — они составляют для меня основу бытия.
«Они не видят и не слышат...»
Нам нужно противопоставить два текста:
Люблю грозу в начале мая...
Ф.И. Тютчев. «Весенняя гроза»
Ничего подобного мировая поэзия не знала, это красота. Но дальше, как мы знаем, идет странный текст о ветреной Гебе. И ни один учитель вам не объяснит, что имеется в виду, кроме Афанасьева: вот это наше древнее восприятие того, что происходит на небе. А дело в том, что на небе постоянно происходят сюжеты, происходят события, есть яркие.
Второй текст ужасный:
Они не видят и не слышат,
Живут в сем мире, как впотьмах...
Ф.И. Тютчев. «Не то, что мните вы, природа...»
Это про нас. Вот если первое стихотворение — про древних, которые так воспринимали мир (ну и мы немножко), то вот это — о современности.
Что значит: «Живут в сем мире, как впотьмах»? Иду я по Петергофскому водоводу, красивое место: слева водовод, справа еловый лес, и это происходит весной. Слева над каналом поет соловей, справа над лесом поет кукушка — надо знать полый звук кукушки — это же восторг! А при этом скворцы, жаворонки, щеглы — все их трели сливаются в один сплошной весенний шум — тот, который описывает Некрасов (уж он в этом деле понимает больше, чем мы с вами):
Мать-природа, иду к тебе снова
Со всегдашним желаньем моим —
Заглуши эту музыку злобы!
Чтоб душа ощутила покой
И прозревшее око могло бы
Насладиться твоей красотой.
Н.А. Некрасов. «Надрывается сердце от муки...»
Иду я по каналу, а впереди машина, а двери открыты, и из дверей несется огромное количество децибел — то ли джаз, то ли рок. Но очень строгий голос у певца, он что-то мне выговаривает. И вот я думаю, ну надо же, ни кукушка, никто, ни скворец ему не нужен. Он включил эту штуковину на двадцать децибел и слушает. Он не видит и не слышит. Мы не будем осуждать его сильно, мы все такие. Мы не видим и не слышим, и солнце у нас не дышит, и волна морская не говорит, и это есть то, что мы утратили за время развития, с момента, когда ветреная Геба кормила Зевесова орла, и по сей день. Это ушло. Такие дикие люди, которые обращают внимание на то, что не надо включать джаз, когда у тебя поет соловей, ты соловья послушай; соловей, между прочим, поет только в мае — начале июня, а кукушка тоже недолго — но какой это звук! — а скворец?
Древний пращур и Медный всадник
Я говорю себе, почуяв темный след
Того, что пращур мой воспринял в древнем детстве...
И.А. Бунин. «В горах»
Я, оказывается, слышу в себе пращура, но связи мои с пращуром прекратились, они не вытаскиваются на поверхность, но это они есть самое живое, что находится в моем сознании. И вот этот пращур — это мое миросозерцание, которое превратилось в инстинкт. Хрусталик сокращается и увеличивается инстинктивно, я же за ним не слежу; так же и восприятие мира — оно существует инстинктивно, тысячелетиями.
— Нет в мире разных душ и времени в нем нет!
И.А. Бунин. «В горах»
Что вы придумываете, какие эпохи вы сочиняете? Да как была в облаках борьба темных и светлых сил, как бог-громовик спасал нас от змеи... Медный всадник — это кто? Это громовик! Он наступил на змею. А камень как называется? Гром-камень! Потому что этот камень расколот ударом молнии. А раз расколот ударом молнии, значит, это то, что спасет город. И дважды спасало. Француз не пошел, хотя мог взять запросто. С немцами сложнее. Они и сами не хотели идти. Но Медный всадник охранял на своем гром-камне. Это то, что составляет не просто основу бытия, но основу истории. И то, что спасает этот город. Конечно, все это знали русские прозаики.
Переложим Тютчева на Толстого
До ближайшей деревни оставалось еще верст десять, а большая темно-лиловая туча, взявшаяся Бог знает откуда, без малейшего ветра, но быстро подвигалась к нам.
Л.Н. Толстой. «Отрочество». Глава II. «Гроза»
Это в нашей науке называется — глаз бури. Это когда центр циклона, вокруг бушуют вихри, а у нас ничего нет, тихо и спокойно.
Солнце, еще не скрытое облаками, ярко освещает ее мрачную фигуру и серые полосы, которые от нее идут до самого горизонта. Изредка вдалеке вспыхивает молния и слышится слабый гул, постепенно усиливающийся, приближающийся и переходящий в прерывистые раскаты, обнимающие весь небосклон. Василий приподнимается с козел и поднимает верх брички; кучера надевают армяки и при каждом ударе грома снимают шапки и крестятся; лошади настораживают уши, раздувают ноздри, как будто принюхиваясь к свежему воздуху, которым пахнет от приближающейся тучи, и бричка скорее катит по пыльной дороге. Мне становится жутко, и я чувствую, как кровь быстрее обращается в моих жилах. Но вот передовые облака уже начинают закрывать солнце; вот оно выглянуло в последний раз, осветило страшно-мрачную сторону горизонта и скрылось. Вся окрестность вдруг изменяется и принимает мрачный характер. Вот задрожала осиновая роща; листья становятся какого-то бело-мутного цвета, ярко выдающегося на лиловом фоне тучи, шумят и вертятся; макушки больших берез начинают раскачиваться, и пучки сухой травы летят через дорогу. Стрижи и белогрудые ласточки, как будто с намерением остановить нас, реют вокруг брички и пролетают под самой грудью лошадей; галки с растрепанными крыльями как-то боком летают по ветру; края кожаного фартука, которым мы застегнулись, начинают подниматься, пропускать к нам порывы влажного ветра и, размахиваясь, биться о кузов брички. Молния вспыхивает как будто в самой бричке, ослепляет зрение и на одно мгновение освещает серое сукно, басон и прижавшуюся к углу фигуру Володи. В ту же секунду над самой головой раздается величественный гул, который, как будто поднимаясь все выше и выше, шире и шире, по огромной спиральной линии, постепенно усиливается и переходит в оглушительный треск, невольно заставляющий трепетать и сдерживать дыхание. Гнев Божий! как много поэзии в этой простонародной мысли!
Л.Н. Толстой. «Отрочество». Глава II. «Гроза»
Гроза соотносится с гневом Божьим. С одной стороны, я должен ее увидеть, а с другой стороны, это гнев Божий — мы это понимаем, как бы мы ни были хорошо образованы и ни осознавали, что это электричество.
Тревожные чувства тоски и страха увеличивались во мне вместе с усилением грозы, но когда пришла величественная минута безмолвия, обыкновенно предшествующая разражению грозы, чувства эти дошли до такой степени, что, продолжись это состояние еще четверть часа, я уверен, что умер бы от волнения. <...> Но только что мы трогаемся, ослепительная молния, мгновенно наполняя огненным светом всю лощину, заставляет лошадей остановиться и, без малейшего промежутка, сопровождается таким оглушительным треском грома, что, кажется, весь свод небес рушится над нами. <...>
Черная туча так же грозно застилает противоположную сторону небосклона, но я уже не боюсь ее. Я испытываю невыразимо отрадное чувство надежды в жизни, быстро заменяющее во мне тяжелое чувство страха. Душа моя улыбается так же, как и освеженная повеселевшая природа. <...> Со всех сторон вьются с веселой песнью и быстро падают хохлатые жаворонки; в мокрых кустах слышно хлопотливое движение маленьких птичек, и из середины рощи ясно долетают звуки кукушки. Так обаятелен этот чудный запах леса после весенней грозы, запах березы, фиалки, прелого листа, сморчков, черемухи...
Л.Н. Толстой. «Отрочество». Глава II. «Гроза»
Абсолютно обостренное чувство бытия: я вижу, слышу, знаю. Обоняние, зрение, осязание — все здесь есть. И вот это и есть способность воспринимать мир. Мир, о котором напоминает мне гроза. Нужно пережить грозу, этот ужас. И тогда мы вернемся к тому состоянию, которое только и есть истинное.
Фантазия и реализм. А.П. Чехов
Чехов так чувствовал природу, как мало кто. Это результат его поездки на Сахалин. Надо что-то сделать в жизни, чтобы все рассказы писать, что ли. Вот он и едет на Сахалин. Это чудовищный замысел, это надо проехать столько тысяч верст. И полторы тысячи верст на лошадях. По бездорожью. Холод. Как только не измучился Чехов, учитывая, что он очень болен. Он врач, но себе он диагноз поставить не может. У него чахотка абсолютно очевидно уже в девятнадцать лет. Он едет. Холод, ужас, кошмар. Сибирь. И вдруг он начинает что-то понимать в жизни. Он ночует в крестьянской избе и чувствует: боже, какие это люди. К ним пришла женщина из города и говорит, что у нее ребенок и негде оставить — можно оставить у них, а потом приехать за ним? Маленький ребенок. Они говорят: конечно. Проходит год, они несказанно любят этого ребенка и больше всего в жизни боятся, что приедет мать и отнимет у них его. И Чехов смотрит на этих людей и думает: «Боже мой! Это же надо! Это же чужой ребенок, и как же они его любят!». И при этом он смотрит на комнату, на стенках висят вырезки из дурных журналов. Какие-то генералы. Нет здесь художественной культуры, нет никакой культуры. Здесь даже приличной иконы-то нет. И при этом какое огромное уважение испытывает он к этим людям.
И вот попадает он на Сахалин. Читать об этом страшно: до сих пор волосы на голове встают. Уж мы начитались про Архипелаг ГУЛАГ, достаточно. И возвращается он обратно, а описать все, что видел, он не может. А на судне солдаты возвращаются оттуда, они когда-то там были охранниками, что ли. Среди них Гусев, у которого последняя стадия туберкулеза, который должен умереть то ли сегодня, то ли завтра. Умирает он завтра. Вы знаете, как хоронят в море? Завязывают в парусиновый мешок, в мешок-колосник. И выбрасывают. Священник читает молитву, и эта парусина вместе с телом падает в воду и идет на дно.
Он быстро идет ко дну. Дойдет ли? До дна, говорят, четыре версты. Пройдя сажен восемь-десять, он начинает идти тише и тише, мерно покачивается, точно раздумывает, и, увлекаемый течением, уж несется в сторону быстрее, чем вниз. Но вот встречает он на пути стаю рыбок, которых называют лоцманами. Увидев темное тело, рыбки останавливаются, как вкопанные, и вдруг все разом поворачивают назад и исчезают. Меньше чем через минуту они быстро, как стрелы, опять налетают на Гусева и начинают зигзагами пронизывать вокруг него воду... После этого показывается другое темное тело. Это акула. Она важно и нехотя, точно не замечая Гусева, подплывает под него, и он опускается к ней на спину, затем она поворачивается вверх брюхом, нежится в теплой, прозрачной воде и лениво открывает пасть с двумя рядами зубов. Лоцмана в восторге; они остановились и смотрят, что будет дальше. Поигравши телом, акула нехотя подставляет под него пасть, осторожно касается зубами, и парусина разрывается во всю длину тела, от головы до ног; один колосник выпадает и, испугавши лоцманов, ударивши акулу по боку, быстро идет ко дну.
А.П. Чехов «Гусев»
Это нельзя видеть, это можно только вообразить. Это фантазия. Это чистое воображение, здесь нет ни грамма реализма. А реализм начнется, когда вдруг из этого моря, куда мы опустились вместе с автором, который рассказывает нам что-то фантастическое, мы поднимаем голову к небу.
А наверху в это время, в той стороне, где заходит солнце, скучиваются облака; одно облако похоже на триумфальную арку, другое на льва, третье на ножницы... Из-за облаков выходит широкий зеленый луч и протягивается до самой средины неба; немного погодя рядом с этим ложится фиолетовый, рядом с ним золотой, потом розовый... Небо становится нежно-сиреневым. Глядя на это великолепное, очаровательное небо, океан сначала хмурится, но скоро сам приобретает цвета ласковые, радостные, страстные, какие на человеческом языке и назвать трудно.
А.П. Чехов «Гусев»
Это ощущение абсолютной тайны. Здесь нет слов, но есть восприятие абсолютной красоты, которая не выражается в языке.
Небо — учитель. З. Гиппиус
Произведение, которое объясняет все, — это книга Зинаиды Гиппиус «Небесные краски». Она знает, что такое небо.
Облака — мысли неба. Так и по человеческому лицу часто проходят тени мыслей, и лицо меняется. Мне кажется, что я иногда умею читать мысли людей — и почти всегда умею читать мысли неба. И как изменяются черты человека, — изменяются и черты небесного лица: солнце сегодня другое, чем было вчера, и уже никогда не будет сегодняшним. И луны я не видал одинаковой. О звездах и говорить нечего. На солнце редко кто смотрит — да ведь и прямо в глаза человеку мы очень редко смотрим.
Кончая мою жизнь, я не знаю, поймут ли меня, но в молодости я был наивен и думал, что всем людям свойственно столько же смотреть вверх, сколько вниз.
Но, однако, прежде чем небо меня покорило безвозвратно, случилось вот что: когда я в первый раз открыл, что люди живут помимо неба, не обращая на него внимания, и живут просто и даже недурно — я глубоко усомнился в себе. А если я не прав? Если все это я только себе выдумал, а небо — обыкновенный потолок, которому до нас нет дела? Отчего бы и мне не жить попросту, как все, глядя себе под ноги? Признаться, в ту пору жизни вечное вмешательство неба в мои дела стало мне просто стеснительно, утомило и рассердило меня. И вот я решил быть один, делать без свидетелей все, что мне хотелось, сам, без указок, без морали, а жить попросту, совершенно как все. Я решил забыть о небе навсегда, потому что ведь иначе от этого свидетеля и учителя нельзя было уйти.
З. Гиппиус. «Небесные слова»
Вся философия включает корень видения: умозрение, мировоззрение, самое главное слово — прозрение. Увидеть надо; вы хотите сказать — подумать, нет — увидеть. Подумать каждый может. Поэтому, когда наши великие философы говорят: «Познай самого себя», это они хотят, чтобы я ушел от мира, от неба, от красок земных и заглянул бы в свою душу. Ничего плохого в этом нет, но не это главное. Прозрение — это не «познай самого себя», а — увидь мир, который тебя окружает. Если ты увидишь, тогда придет к тебе то самое откровение, которое знает фольклор, знает Библия и знают великие писатели. И мы этого не читаем. Эти места мы пропускаем. Заставь школьника читать описание пейзажа — не будет.
Молния, обнажающая мир. В.В. Набоков
Когда в детстве Андрею Белому объясняли, что гроза — это электричество, он говорил: гроза — это Зевс, Зевс, который складывает молнии.
Но иногда, когда нальется
грозою небо, иногда
земля притихнет вдруг, сожмется,
как бы от тайного стыда.
И вот — как прежде, неземная,
не наша, пролетаешь ты,
прорывы синие являя
непостижимой наготы.
И снова мир, как много сотен
глухих веков тому назад,
и неустойчив, и неплотен,
и Божьим пламенем объят.
В.В. Набоков «Электричество»
Земля сжимается, как будто от какого-то тайного стыда. Молния — она не наша, не земная, божественная. Мир обнажился в своей исконной сущности. Молния не электрического происхождения — это Божье пламя. Это тот язык, которым говорит и Набоков, а потом через сто веков мы будем рассуждать, откуда происходит электричество. Как же оно происходит?
Игра, принятая за истину
В 1595 году великий Меркатор, когда пытался нарисовать атлас земного шара, столкнулся с проблемой: земной шар круглый, а атлас можно сделать только на плоскости. И если с параллелями все хорошо, то меридианы не укладываются в квадраты. Меркатор уложил. Так вот, нужно перенести реальный мир на вот эту нереальную карту, атлас. В 1805 году был составлен первый атлас облаков. Нам очень хочется подвести все под какую-то идеологию. Все теории замутили нам голову, но надо вернуться к первоначальному. Мы знаем, как все устроено, но ничему это не помогает. Это как замечательная игра, головоломка, за которой ничего не стоит, но мы временами считаем, что вот это и есть истина, а не вот та гроза, когда земля будто бы съежилась от какой-то тайной вины. Изображение неизображаемого. Никто не способен изобразить, как земля съеживается.
Пока я не почувствую мифологию у себя в сознании, изучать мне нечего. Я должен однажды почувствовать: вот это мне близко, это понятно. Вот это окончательно забылось человечеством под влиянием исключительно точных наук, которые сами по себе большая радость, потому что — что может быть лучше, когда человек что-то придумывает эдакое развеселое, электричество. Эти открытия немножко закрывают мир. Современное человечество забывает мифопоэтическое отношение к миру. Только выбросите эту поэзию и миф, жизнь становится плоской и неинтересной. Совершенно неинтересной. Скука смертная — жить в таком мире, где ничего не происходит. А все время что-нибудь происходит, особенно если взглянуть на небо, да еще знать названия облаков, да еще знать, что такое глаз бури, да взглянуть на эти облака глазом летчика или командира корабля, который кричит: «Снять паруса!», потому что глаз бури — тихо. Вот где крылась истина, и эта истина никуда никогда не денется, она лишь отдаляется. Можно сказать, что в мире господствует борьба классов, или борьба противоположностей — Гегель. Но ни Гегель, ни Кант мне не помогают, я уж не говорю про Маркса. А вот эти поэтические воззрения не просто помогают — они составляют для меня основу бытия.